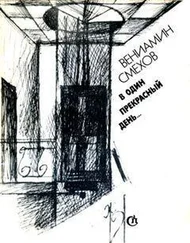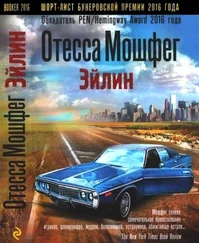— Да-да, больно, — согласилась я.
— Мне правда жалко этого китайского мальчика, — сказала Рива, снова сворачивая журнал.
Я протянула руку над ее коленками и взялась за журнал, который она крепко сжимала в кулаке. Дернула к себе. Это было как перетягивание каната. Я не хотела, чтобы она уходила. Белый свет лампы под потолком бросал блики на ее ключицы. Она была красивая, со всеми ее нервами, сложными, меняющимися чувствами, противоречиями и фобиями. Это был последний раз, когда мы с ней виделись.
— Я люблю тебя, — сказала я.
— Я тоже тебя люблю.
Видео и картины Пин Си появились в «Дукате» в конце августа. Шоу называлось «Большеголовые изображения красивой женщины». Он или Наташа прислали мне с курьером «Федэкс» отрывки отзывов. Никаких записок. Картинки с шоу были не такими, как я представляла их в те дни, когда Пин Си работал в моей спальне. Я ожидала увидеть серию неряшливо написанных ню. Однако Пин Си сделал мои портреты, стилизовав их под гравюры Утамаро, — в неоновых кимоно с тропическими цветами, и отпечатками губ, и логотипами «Кока-колы», и моторного масла «Пензойл», и водки «Абсолют», и «Шанель». На каждой картине моя голова была огромной. Несколько работ Пин Си оживили коллажем из моих настоящих волос. В журнале «Артфорум» Рональд Джонс назвал меня «надутой нимфой с глазами мертвеца». В «Нью-Йорк таймс» Филлис Брафф презрительно назвала шоу «продуктом Эдиповой похоти». «Арт-ревью» счел работы «предсказуемо разочаровывающими». В остальном отзывы были положительными. На упомянутых там видео я говорила на камеру, вероятно, рассказывала какие-то личные истории — в одной я плакала, — но Пин Си сделал свою озвучку. Вместо моего голоса звучали сообщения из голосовой почты, которые рассерженная мать Пин Си оставляла ему на кантонском наречии. Без субтитров.
Как-то днем в начале сентября я забрела в «Мет». Думаю, мне хотелось посмотреть, как другие люди распорядились своей жизнью, — те, которые создавали произведения искусства в одиночку, и те, которые подолгу неотрывно смотрели на какую-нибудь вазочку с фруктами. Мне было интересно, наблюдал ли живописец, как сохли и съеживались виноградинки, приходилось ли ему отправляться на рынок и покупать новую «натуру» и съедал ли он те первые ягоды. Я надеялась, что у творцов было хоть какое-то уважение к предметам, которые они делали бессмертными. Может, думала я, когда мерк свет дня, они выбрасывали подгнившие плоды из открытого окна в надежде, что так спасут жизнь голодного нищего, проходившего мимо дома. Потом я представляла нищего: чудовище с червями в спутанных волосах, лохмотья на костлявом теле трепещут, словно птичьи крылья, в глазах горит отчаяние, сердце, словно зверек в клетке, молит о смерти, ладони сложены в вечной мольбе. А горожане так и снуют на городской площади. Пикассо был прав, когда стал писать угрюмых и отверженных. Его «голубой период». Он смотрел в окно на собственные горести. Это вызывает у меня уважение. Но художники, писавшие фрукты, думали только о скоротечности собственной жизни, будто красота их работ как-то могла уменьшить страх смерти. Они все были в музее — развешены беспомощно, простодушно, бессмысленно. Изображения вещей, предметов, да и сами картины были просто вещами, предметами, высыхающими и съеживающимися перед неизбежным концом.
У меня возникло ощущение, что если я сдвину рамы в сторону, то увижу художников, словно изучающих меня через двухстороннее зеркало, щелкающих своими артритными суставами и потирающих щетинистые подбородки. Они будут смотреть и гадать, почему я думаю о них, осознаю ли совершенство их мастерства или их жизни были бессмысленными, раз только Бог может судить их. Стремились ли они к большему? Можно ли было выжать еще больше гениальных творений из терпентиновых тряпок у их ног? Могли ли они писать еще лучше? Могли они писать более искренне? Более ясно? Могли выбросить еще больше фруктов из своих окон? Суждено ли им было понять, что слава — дело мирское, приземленное? Хотелось ли им раздавить пальцами эти увядшие виноградины и проводить дни, разгуливая по полям, или влюбляясь, или признаваясь в своих заблуждениях священнику, или испытывая голод не только душой, но и телом, прося милостыню на городской площади? Может, они жили неправильно. Может, их отравило величие. Размышляли ли они над этими вопросами? Может, они не могли спать по ночам. Терзали ли их кошмары? Может, они на самом деле понимали, что красота и смысл не имеют между собой ничего общего. Может, они жили как настоящие художники, понимая, что не бывает жемчужных райских врат. Ни творчество, ни жертвы не могут привести человека на небеса. Или, может, это не так. Может, утром они были рады отвлечься с помощью своих кистей и масел, смешивали краски, курили трубку и возвращались к свежим фруктам, приготовленным для натюрмортов, больше не убивая мух.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу