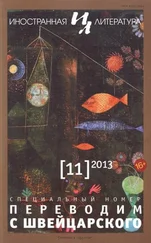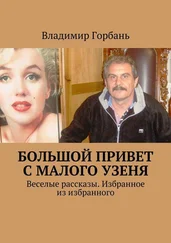— Дай разок крикнуть, что хочу. Дай разок сказать, что на душе накипело, и пойду своей дорогой. Допусти хоть разок до этого рупора, будь человеком!.. Чего вы над малыми детьми измываетесь? Чего сами себя мучаете? Хоть детей пожалейте! Кто пьяный? Это я пьяный? Никакой я не пьяный. Просто ты струсил и дал деру. Правда глаза колет, это давно известно…
Последние слова он произнес сравнительно негромко, видимо успокоившись. Потом подогнул колени, медленно опустился на тротуар и тут же уснул.
* * *
Тринадцатого мая у него с утра ужасно болела голова. Пришлось принять две таблетки анальгина. Лекарство притупило боль, но так одурманило, что, выйдя из дома, он дважды вынужден был вернуться: в первый раз вместо портфеля захватил школьную сумку племянника, а во второй, — дотронувшись до подбородка, понял, что забыл побриться.
При виде пустого, безлюдного стадиона у него сжалось сердце, но он тут же вспомнил, что в этот день репетиция назначена на центральной площади, и бегом бросился туда.
На площади было шумно и оживленно. Радуга, словно троянский конь, стояла перед театром. У ее мастодонтских ног сидели плотники с мебельной фабрики и ждали вдохновителя мероприятия.
Дети, воспользовавшись паузой, разыгрались, разбегались. Они атаковали будку с мороженым, гонялись друг за другом в горелки, скакали и ходили колесом.
Несколько смышленых пионервожатых отвели своих подопечных подальше от общей толчеи и вместе с пионерами играли в старую, традиционную на гуляньях игру «Мое золото — мне!» (раньше эта игра называлась «Чью душу желаете?»).
Прохожие останавливались, загородив рукой глаза от солнца, молча взирали на радугу, пожимали плечами и шли дальше по своим, как им казалось, более важным делам.
— Вы хоть укрепили ее как следует? — Чито первым делом подошел к плотникам.
— Еще не приступали, — рабочие встали.
— А чего ждете? И так опаздываем. Полдень уже, неужели не видите?
— Мы не знали, где ее ставить. А то поставим, укрепим, а потом придется туда-сюда перетаскивать.
— От перетаскиваний она вчера и завалилась, — молодой чернобородый плотник заглянул режиссеру в глаза и со значением подмигнул.
Чито Размадзе дал указание поставить радугу у входа в сад Акакия Церетели, перед колоннадой. Затем взял в руки рупор и поднялся на трибуну. Прекрасная трибуна была сколочена для торжеств, просторная, красивая и, что самое главное, не скрипучая.
Репетиция началась ровно в двенадцать.
Когда певцы Гиглы Цирекидзе в третий раз вскарабкались на радугу (каждый раз при этом вся площадь испуганно обмирала), на трибуне появился заведующий отделом просвещения и дотронулся до плеча взмокшего от трудов Чито Размадзе.
Чито оглянулся, широко улыбнулся.
— Надо тебя на два слова, — выражение лица у заведующего было несколько смущенное.
— Минутку. Еще разочек прогоню общий выход — и я в вашем распоряжении, — пообещал Чито Размадзе.
— Не нужно репетировать. Выслушай меня.
Чито опустил рупор и уставился на начальство.
— Из исполкома позвонили, сказали — не надо.
— Что?! — На лице у Чито появилось неожиданное зверское выражение; он почувствовал, как кровь загудела в ушах.
— Не надо приветствия. Гость к нам не заедет. Программа изменена. В наши края вообще не едут.
— Да, но как же так?..
— Я им то же самое сказал. Людей, говорю, загнали, расходы расходами, а нервы-то не восстанавливаются. Неужели вы раньше этого не знали? А Абесадзе говорит: «Откуда мы могли знать? Нам приказывали, мы и исполняли».
— Что же мне теперь делать?
— Что делать? Объяви людям и ступай домой, — заведующий отделом просвещения повернулся и поспешно ретировался с трибуны.
Минуты через две Чито Размадзе надтреснутым тенорком, со слезой в голосе объявлял:
— Слушайте все! Сейчас вы расходитесь по домам. Форму берете с собой, ленты сдаете. Завтра выступление не состоится. Выступление отложили. Когда будет нужно, мы вас предупредим!
Он вытер со лба холодный пот, спустившись с трибуны, сунул кому-то рупор и побрел вверх по Чомскому подъему.
С чего его потянуло в Чоми? Кто знает… Он жил в Вакиджвари, и в Чоми у него не было никого, кто мог бы развеять горе.
Перевод А. Эбаноидзе.
Выходит, весь этот белый свет только для нас с Леваном оглох и онемел, сынок. Выходит, от всех этих пошт с телеграфом только мне никакого проку. Я говорю, когда вам припечет, вы аж с самых звезд людей на землю спускаете, со дна морского золотой рог извлекаете. А до беды тетушки Тамары вам и дела нету. Так и сказала, сынок. Может, и не следовало кипятиться, но не утерпела. Нет, и впрямь: неужто темно на белом свете, чтоб от Овреска и до Кожрети живой человек пропал и не сыскался… А бывает, что и засомневаюсь: что, если я от возраста головкой слабнуть стала? Клянусь моим Леваном, думаю, уж не свихнулась ли я на старости лет, таскаюсь по всем этим поштам-телеграфам ровно ненормальная. Ничего не поделаешь, мой хороший, старость она и богатырей одолела, что же ей со мной — воблой тощей — чикаться. Не приди ко мне та телеграмма, глядишь, и не сорвалась бы с места. Таких вдов, как я, вон сколько на свете, что я за пасхальное яичко такое, чтобы людей собой беспокоить.
Читать дальше