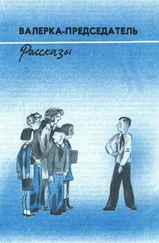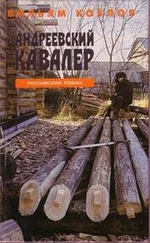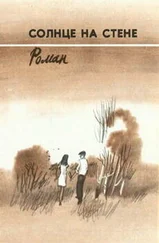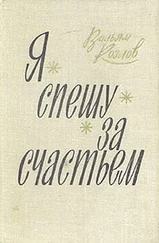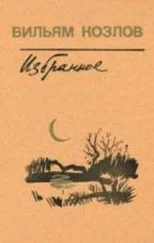— Куда ехать? — включив зажигание, поинтересовался я.
— Веселый поселок, — улыбнулась она. — Вы не знаете, почему наш район так назвали?
— Там, наверное, живут остроумные люди, — пошутил я. Могла бы раньше назвать адрес, мне ближе было бы доехать до ее дома от Московского проспекта.
— Я бы этого не сказала, — заметила она.
Жила она в тихом переулке неподалеку от Народной улицы. Обыкновенный кирпичный девятиэтажный дом. И квартиры в нем малогабаритные, с низкими потолками и крошечной кухней. Зато по обеим сторонам дома густо росли липы и тополя. Виднелась детская площадка с грибом и деревянными зверюшками. И еще я заметил одинокий металлический гараж, приткнувшийся к каменной ограде.
— Большое вам спасибо, Андрей, — поблагодарила Ирина. — Вы спасли меня от милиции, расспросов-допросов. Я бы этого не выдержала.
— На каком вы этаже живете? — спросил я. Мне больше нечего было сказать. Раз она ко мне не захотела зайти, вряд ли и к себе пригласит. Да и хочу ли я подняться к ней? На этот вопрос мне было трудно ответить. Нет слов, передо мной стояла симпатичная женщина с безукоризненной фигурой, но в синих глазах у нее был если не лед, то холод. Я давно заметил, что у светлоглазых людей глаза более холодные, чем у кареглазых и черноглазых. И даже сероглазых. В бархатной мути труднее распознать сущность человека. И черные глаза почти не изменяют свой цвет, а вот у Иры глаза опять изменились, стали темно-синими.
— Я хочу побыть одна, Андрей, — сказала она. — И, честно говоря, я засыпаю на ходу... Вы не обижайтесь на меня, ладно? Уж кофе-то я смогла бы для вас приготовить...
Она улыбнулась, блеснув ровными белыми зубами. Улыбка у нее была красивой, прямой нос чуть сморщился, а глаза посветлели.
Она повернулась и почти бегом побежала вдоль подстриженных кустов к парадной с черными номерками квартир над дверями. Обернувшись, негромко уронила:
— До свиданья, Андрей.
Я еще какое-то время постоял возле машины. Стука каблуков ее я не слышал, не услышал, и на каком этаже хлопнула дверь лифта. Солнце будто мягкой щеткой на длинной ручке гладило сверкающие окна лестничных клеток, на карнизах грелись голуби, плоская железная крыша ощетинилась рогатками антенн. Слышалась откуда-то сверху негромкая мелодия. О чем я тогда думал и что чувствовал? Обидно, что она не пригласила меня, даже не сообщила номер квартиры... Ира устала, такое было потрясение. И все-таки она сказала: «До свидания!» И если бы я настоял, не отказалась бы угостить чашкой кофе... А вдруг она сверху сейчас смотрит на меня?
Я сел за руль, подал «Ниву» немного назад, круто развернулся и, наобум посигналив ей, Ире, выехал со двора по узкой заасфальтированной дорожке на проспект. И до самого дома меня не покидало чувство, что я что-то не так сделал, что-то упустил или не то сказал... Впрочем, я знаю, где она живет, знаю ее имя, фамилию, даже институт, где она работает...
Тогда я еще не догадывался, что для меня будет эта женщина значить.
Первые дни, когда я приезжал из деревни в Ленинград, мой телефон подолгу молчал. Знакомые начинали звонить позже, примерно, через недели две. Городской ритм жизни властно вторгался в мою жизнь. Сам я звонить не любил. Мне почему-то казалось, что я отвлекаю знакомого от какого-то важного дела. И если в его голосе звучала нотка неудовольствия, я это сразу чувствовал и торопился поскорее закончить разговор. Я по себе знал, как досадно бывает, когда тебя с антресолей или из какого-либо другого отдаленного места требовательно зовет телефонный звонок. А разговор бывает самый пустяковый.
Первый утренний звонок в хмурое сентябрьское утро был от редактора из издательства. Он сообщил, что составляется план переизданий на ближайшую пятилетку и что он хотел бы со мной посоветоваться, какую книгу лучше переиздать. Это был приятный звонок. Иван Иванович Труфанов мне нравился, он редактировал мою первую книгу. От многих литераторов я слышал, что он один из лучших у нас редакторов. Ведь писатель какого редактора считает лучшим? Того, кто меньше придирается к рукописи. Иван Иванович не придирался, не навязывал своего мнения, он просто указывал на неточности, повторы, длинноты. Прекрасно чувствовал язык, сюжет. Его замечания, как говорится, попадали не в бровь, а в глаз.
Гораздо чаще сталкиваешься с другими редакторами, которые лезут в твой стиль, переставляют слова, сокращают, грудью становятся на защиту нравственности советского читателя. Даже самые целомудренные любовные сцены вызывают у них протест, а если чуть больше, так это называют натурализмом, пошлостью... Есть редакторы, которые с садистским удовольствием кромсают, коверкают каждую страницу и потом всем своим коллегам показывают, мол, вот как я «работаю» с автором! И я понимаю, что, правя рукопись, редактор где-то в глубине души считает себя выше писателя: ведь он его правит, заставляет что-то выбрасывать, а что-то вставлять...
Читать дальше