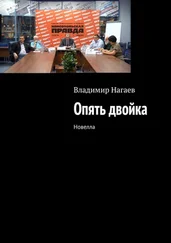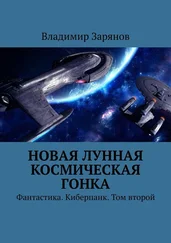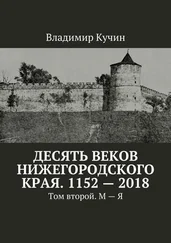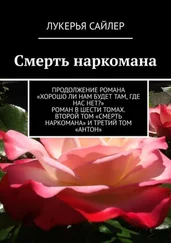Выше по тексту мною было отмечено, что самая оптимальная температура дезактивирующего раствора находится в пределах 30—40 0С. Карстовые участки бассейна реки Лозьва такой температурный режим воды в зимний период года не создают. Напрашивается вывод о том, что вода из притока Лозьвы, служащая для приготовления дезактивирующего раствора должна была подогреваться. В холодной воде сульфанол и гексаметафосфат натрия растворяются плохо, вспенивание раствора получается невысоким и кратковременным.
В материалах уголовного дела имеется протокол осмотра, так называемого места происшествия: «Под кедром в ямке обнаружены следы от костра, о чем свидетельствуют полуобгоревшие сучья» (УД т.1, л.д.3). Протокол допроса свидетеля Брусницына, участника поисковой эпопеи и одного из первых появившегося в районе кедра: «Во время поисков места для лагеря М. Шаравин обнаружил у кедра два запорошенных снегом трупа. Рядом когда-то горел костер. Вокруг было срублено финским ножом больше десятка небольших елочек. Нижние сухие ветки кедра были обломаны. Снег кругом был истоптан. На кедре было также сломано на высоте 3—4 метров несколько пятисантиметровых сырых веток. Часть из них так и осталась лежать у костра» (УД т.1, л.д.366). Уважаемые читатели и дятловцеведы, обратите внимание, что свидетель не пишет, что снег вокруг костра был истоптан босыми ногами.
Протокол допроса свидетеля Масленникова, начальника объединенного штаба поисковых групп: «Осмотр места происшествия свидетельствовал о том, что… был разведен довольно приличный костер из веток кедра и елочек, но этот костер горел часа полтора (восьмисантиметровые сучья кедра перегорели пополам)» (УД т.1, л.д.68). За многоточием стоит фраза Масленникова «ими, или при участии их» не нашедшая никаких доказательств в ходе уголовного дела. Для меня в показаниях Масленникова ключевое значение представляет информация о продолжительности горения костра. Этого времени (полтора часа) вполне достаточно для приготовления на огне костра горячей воды. Все подручные средства для проведения дезактивации одежды и обуви имелись среди снаряжения и вещей туристов группы «Хибина»: комплект лыж с палками, два ведра, ложка из белого металла в качестве мерной емкости для добавления в воду порошка сульфанола и гексаметафосфат натрия. В качестве ветоши для протирания — солдатская обмотка. Ложка из белого металла и солдатская обмотка были обнаружены поисковиками в мае 1959 года в районе настила (майские радиограммы из партийного архива). Солдатская обмотка принадлежала Золотареву и в группе «Хибина» эта ценная находка имела иное назначение. Кроме солдатской обмотки в качестве ветоши могла использоваться деталь ткани в форме матерчатого пояса, обнаруженная поисковиками возле кедра. Из протокола допроса свидетеля Столбцова: «Лично я видел, как под этим кедром был обнаружен матерчатый пояс темного цвета с тесемками на концах. Этот предмет кому принадлежит и для чего он предназначен, я не знаю. Длина этого предмета около 80 см, ширина около 10 см, на вид похож на пояс или лямку, которой манси тянут груз, но этот предмет для применения вместо лямки не годен, так как он не прочный» (УД т.1, л.д.299).
Вот она — идеальная ветошь для дезактивации, полоска ткани шириной 10 см, комфортно вмещается в ладонь руки с резиновой перчаткой. Столбцов — опытный турист, но найденный матерчатый пояс не воспринимал как предмет туристского снаряжения. Можно предположить, что матерчатый пояс — это не что иное, как вторая солдатская обмотка. Внешний вид, ширина и длина матерчатого пояса полностью соответствуют детали обуви, имевшейся в начальный период войны на табельном обеспечении в десяти саперных армиях ГУОБР НКВД, в одной из которых проходил службу Золотарев. В дату обнаружения матерчатого пояса под кедром Ортюкова на перевале не было, он находился в штабе Ивделя. А сделать заключение о том, что матерчатый пояс — это солдатская обмотка могли лишь два человека: полковник Ортюков и прокурор-криминалист Иванов, поскольку оба прошли всю войну.
Из показаний свидетелей по уголовному делу следует, что снег вокруг костра был истоптан, а в костре находились перегоревшие сучья кедра толщиною восемь сантиметров. «При кратковременных стоянках для разведения костра на снегу необходимо нарубить 6—7 сырых жердочек толщиной 8—10 см и длиной 1,5 м. На нужной площадке снег утрамбовывается, и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер». Примерно так описывал технику разведения костра в своих творческих мемуарах один из московских экспертов туристского похода группы «Хибина», внесший позорную страничку (и не одну) в материалы уголовного дела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Нагаев Период полураспада группы «Хибина» [Том второй] обложка книги](/books/415889/vladimir-nagaev-period-poluraspada-gruppy-hibina-cover.webp)
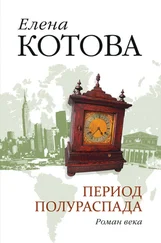
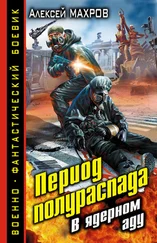

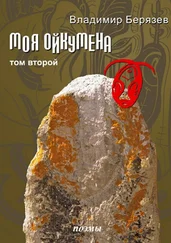
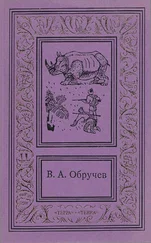
![Владимир Нагаев - Период полураспада группы «Хибина» [Том первый]](/books/415973/vladimir-nagaev-period-poluraspada-gruppy-hibina-thumb.webp)
![Владимир Нагаев - Период полураспада группы «Хибина» [Том третий]](/books/415974/vladimir-nagaev-period-poluraspada-gruppy-hibina-thumb.webp)