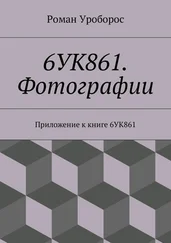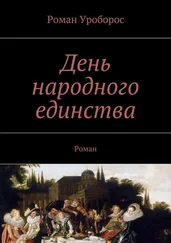АНАТОЛИЙ. Слушай, Вась, может, начальника моего в долю возьмем? Он типа как крыша. Как-то все вообще…
АЛЕКСЕЙ. А зачем делиться? Он, может, скажет лимон. А у нас всего лимон. С Гансами не поторгуешься.
АНАТОЛИЙ. Ладно. Только деньги по любому вперед. Вот так как-то.
АЛЕКСЕЙ. Уже взял.
АНАТОЛИЙ. Куда положил?
АЛЕКСЕЙ. В ячейку нашу.
АНАТОЛИЙ. Слушай. Вась, может, кинем их или завалим? Два трупа как-то вообще лучше, чем там пятнадцать—двадцать.
АЛЕКСЕЙ. Нельзя. Люди серьезные за этим смотрят. Если дело не сделаем — самих завалят.
АНАТОЛИЙ. А кто это?
АЛЕКСЕЙ. Ну, серьезные пассажиры. Я им денег много должен… Вот они и сказали: если все сделаю, как надо — и долг простят, и лимон можно забирать.
АНАТОЛИЙ. Ну, а как мы их застрелим, Гансов твоих, если как-то люди серьезные, говоришь, смотрят?
АЛЕКСЕЙ. Ладно, черт внимательный, слушай… Люди эти мои серьезные не хотят, чтоб Гансы наши из страны уехали. Ну, мистика там какая-то… Мне, когда рассказали, не поверил сразу, крыша чуть не поехала. (Понижая голос). Ганс с Отто не простые пассажиры… короче, миссия у них там какая-то атлантическая. Будто Евразия с Америкой какую-то битву ведут уже тысячу лет, и все с переменным успехом. И вот для того, чтобы Америка выиграла, Ганс с Отто должны в определенном месте секретном, в Америке, выложить пирамиду из шестисот шестидесяти шести черепушек и заклинание особое сказать. Тогда все, пипец, Америка как бы войнушку эту выиграет и будет миром править до страшного суда. А самое главное, что у них до числа зверя этого пятнадцати черепушек не хватает, и они, черепушки эти, обязательно должны из России быть. Тогда все у Ганса с Отто получится.
АНАТОЛИЙ. Красиво. Как-то я одного не понимаю. Если Америка с нами воюет, причем здесь Отто, Ганс, гестапо, СС, форма немецкая? Это ж все как-то из Германии пошло.
АЛЕКСЕЙ. Вась, я смотрю, ты мужик умный, а все в милиции работаешь. Я тоже у моих этих спросил. А они говорят, что вся эта фашистская хреновина в Америке придумалась, чтоб Гитлера со Сталиным стравить, обесточить, короче, Евразию, ну, и Америка в фаворе. Так что самые истинные изначальные фашисты-нацисты на самом деле в Америке. Атлантисты переодетые.
АНАТОЛИЙ. Пидорасы они, Вась. Вот я и говорю, что американцы — это самые поганые твари на земле. К нам еще лезут, суки.
АЛЕКСЕЙ. Ладно, Вась, хорош. Давай о деле. На вечеринке у олигарха нашего должно быть пятнадцать человек — ни больше, ни меньше. А он девятнадцать пригласил — это, правда, вместе с охраной… ну, точнее, двадцать один человек — если нас с тобой считать. На эту тему у меня есть один план…
АНАТОЛИЙ. Вась, чего-то ты темнишь. Да и глазки у тебя бегают. А ну, правду говори.
АЛЕКСЕЙ. (Преувеличенно дружелюбно улыбаясь). Вась, я же не договорил. Слушай до конца. Ну, вот. Из этих моих людей серьезных как бы один отдельно вышел, с отдельной просьбой. И просил, чтобы никто об этом не знал, ни одна живая душа.
АНАТОЛИЙ. Ну.
АЛЕКСЕЙ. Он дает сто тысяч долларов, чтобы Антона и его банды на дне рождения не было. Странная просьба, да?
АНАТОЛИЙ. Так. Какая разница, за что нам денег заплатят? Насколько я тебя знаю, ты деньги уже взял? (Улыбается).
АЛЕКСЕЙ. (Улыбается). Да, взял и в ячейку положил. А теперь слушай мой план.
Разговор этот уединенный происходит за столом деревянным неотесанным. На столе стоят две банки с «Колой» и на краешке стола одиноко белеет блюдечко с орешками арахисами солеными, посредине стола обматывает всю картину паутиной энергетической и не дает миру рассыпаться пепельница, до краев наполненная окурками. Рядом сидят на двух табуретах деревянных, родственных столу неотесанному, два человека — Анатолий и Алексей. Анатолий — брюнет-черт-дьявол черноглазый, Алексей — блондин-ангел-полубог голубоглазый. Дальше выплывают из небытия четыре пустых брата-стола с родственниками стульями хороводящими. Вся танцевальная группа упирается-умирает в барную стойку и бармена, описывать которого не хочется, а попросту даже лень. Но самые главные символы как обычно висят на стенах в виде картин, на которых происходят сцены зимней охоты. Картины эти силком затягивают в детство, в блаженство, во что-то очень хорошее, родное и теплое, в фильм «Солярис», в Баха, в старую дореволюционную Москву, в первую любовь.
«Петьку, конечно, жалко очень, но он все равно при таких темпах бухания долго не протянет…»
На Ленку смотрело очень красивое свежее молочное девичье лицо. Небесно-голубые глаза, в которых сосредоточилась вся любовь этого мира и посреди этого океана любви безбрежной — два зрачка-гвоздика черных, где сосредоточилась вся нелюбовь мира. Как всегда, после долгой медитации перед зеркалом очень трудно возвращаться обратно, снова ощущать кожей этот неблагополучно-серый мир, где ей приходится периодически вытаскивать себя рукой за чубчик ослепительно-соломенных короткостриженых волос, за одно прикосновение к которым некоторые обитатели мира сего готовы были отдать все, что у них было за довольно хлипенькой и никому не интересной душой, страшной своим безверием во что-то хорошее и невидимое. Подбежала страшная минута прозрения, когда Ленка всем телом своим понимала, что лицо это никакого отношения не имеет к ней настоящей, истиной, светящейся неземным светом… «Интересно, удастся мне сегодня Петеньку затащить к себе домой и нежно и ласково так полюбить ненавязчиво, всем телом своим языческим, развратным, благоухающим?» Раздался стук в дверь набатно — мама.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу