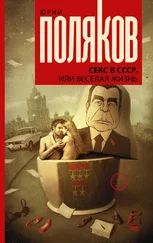– На обед не опаздывай! – предупредила дежурная.
Ефросинью Михайловну мы за глаза звали «дояркой». Она всю жизнь проработала в ближнем совхозе имени Ленина, жила в собственной избе за железной дорогой, держала огород, кур, корову и лет тридцать по воскресеньям носила писателям лучок, редиску, яйца и парное молоко в обливных глиняных кринках. Но потом совхозные земли пошли под новостройку, деревню снесли, а ей дали квартиру на двенадцатом этаже панельной вавилонской башни, куда корову и кур с собой не возьмешь. Так «доярка» стала дежурной в Доме творчества. А вот ее сменщицу Ядвигу Витольдовну за глаза звали «генеральшей», но о ней позже.
На ключе болталась картонная бирка с фиолетовым номером – 37. Я поднялся на второй этаж, свернул направо и пошел по долгому коридору. Кое-откуда сквозь ватную обивку глухо стрекотали пишущие машинки. Из-за одной двери слышались веселые голоса и лязг содвигаемых стаканов. Из другого номера доносился скрип кровати и сдавленные стоны счастья. Как у нас пишут в плохих производственных романах, Дом творчества жил своей обычной трудовой жизнью.
Я вошел в комнату, откуда еще не выветрился запах прежнего постояльца детективиста Майнера, он курил кубинские сигареты «Партогас» и заваривал свежий молотый кофе. Если бы я занял место Борьки, там воняло бы перегаром и конской колбасой. Мукачин, несмотря на беспробудное пьянство, был народным поэтом, и номер ему, без сомнений, дали получше, поэтому, едва его увезли в больницу с «белкой», площадь занял знаменитый Майнер. Да и бог с ним! Номер как номер, обычный, вытянутый, квадратов пятнадцать-семнадцать, с высоким лепным потолком, большим окном и широким подоконником. Под ногами давно не циклеванный паркет, на стенах выцветшие обои с некогда зелеными букетиками полевых цветов. Над головой трехрожковая люстра с двумя перегоревшими лампочками. Из мебели: шифоньер со скрипучей дверцей, письменный стол, журнальный столик с двумя креслами. Кровать гостиничного типа. Обои над матрацем вытерлись до белесости. На полу – коврик, явно отрезанный от министерской дорожки. Такие же во всех комнатах. Туалет и душ за дверью, общие, в конце коридора. Зато в номере справа от входа свой умывальник. Остроумец Михаил Светлов, любивший бывать здесь, назвал Переделкино «серпентарием талантов».
О Светлове и сегодня ходит множество баек. Одну из них мне передал по эстафете поэт-фронтовик Николай Старшинов, удивительно похожий внешне на цыгана. Я по молодости носил ему в альманах «Поэзия» стихи, которые, кажется, Старшинову не нравились, но чтобы подсластить отказ, он, добрый человек, поил меня чаем с конфетами (алкоголь после четверти века безудержного злоупотребления ему строго-настрого запретили), рассказывая были с небылицами.
Демобилизованный после тяжелого ранения в ногу, Старшинов поступил в Литературный институт и, проучившись год, решил показать плоды вдохновений кому-то из классиков. Сунулся к Николаю Тихонову – тот в Индии, по Гималаям лазает. Владимир Луговской после «медвежьей болезни», случившейся с ним на фронте под бомбежкой, впал в мизантропию и никого не желал видеть. Александр Твардовский снова ушел в черный запой, но секретарша пообещала: выйдет недели через две к людям и непременно встретится, так как молодежь любит. Константину Симонову было не до литературной смены – он писал срочный доклад к очередному пленуму ССП. Пытался Старшинов пробиться и к Борису Пастернаку – куда там: Шекспира переводит, парит в небесах, некогда ему с земноводными возиться. Тогда начинающий поэт добыл телефон Михаила Светлова, и тот радушно пригласил его через пару дней в Дом творчества «Переделкино», куда как раз собирался на месячишко. Между делом классик попросил студента по дороге купить на станции бутылочку водки и пивка. Михаил Аркадьевич употреблял прилежно, ежедневно, чего не скажешь о творческом усердии. В квартире на улице Горького висел плакат «График на фиг!». Он уверял, что на мемориальной доске, которую когда-нибудь прикрепят к стене его дома, будет выбито золотом по мрамору: «Здесь жил и не работал Михаил Светлов». Вторую половину жизни поэт в основном шутил. Когда его спросили, как он со своим острым языком пережил 1937-й, Михаил Аркадьевич ответил: «Я, знаете ли, в 36-м так напился, что протрезвел только в 53-м».
В условленный день Старшинов помчался на Киевский вокзал, сел в пригородный поезд, но, выйдя на станции, просьбу мэтра не выполнил: стипендия давно кончилась. И вот он, благоговея, вступил в одноместный номер (большая редкость по тем скученным временам), да еще со своим личным – слыхано ли? – умывальником. Живут же классики!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
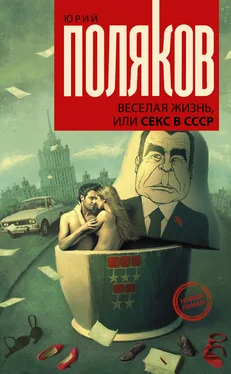

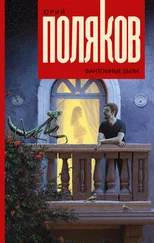

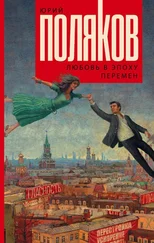

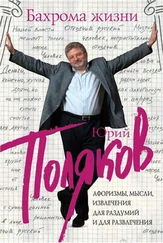

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)