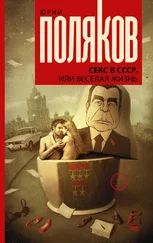– Проснись! Тебе слово дали.
– Мне?
– Ну, Егор, смелее! – с напряженным дружелюбием призвал Шуваев. – Робкий что-то комсомол нынче пошел, не то что былое племя…
– Нет, не робкий, – очнулся я и сразу же врубился, поскольку выступал не на первых похоронах. – Не робкий, а благоговеющий перед подвигом отцов и дедов, в молчаливой благодарности склоняющий голову перед вкладом Степана Герасимовича в великое дело Победы над врагом и созидания светлого будущего…
По горестным рядам прошелестел ропот одобрения: мой находчивый и искренний пафос оценили. А Владимир Иванович глянул на меня с лукавой отеческой гордостью.
– Мир праху твоему, Степан Герасимович, война всему тому, что ты ненавидел, и долгие лета всему тому, что ты любил!
Под нарастающие звуки траурного марша, лившегося сверху, мы слаженно подхватили тяжелый гроб, сбитый из влажного теса, вынесли в распахнутые двери и закатили в квадратный приемник катафалка. Неструганные доски кололись сквозь материю, и я занозил палец. Пока ветхие соратники, подсаживая друг друга, заползали в автобус, я вернулся за плащом и портфелем, обнаружив, что черных покрывал на зеркалах уже не нет, большой узорный циферблат напольных часов открыт, некролог убран, даже постамент успели унести, и только лесной запах хвои еще витал в воздухе. Шуваев издали погрозил мне пальцем, показав на часы, мол, не опаздывай! Я в ответ взмахнул руками, мол, прилечу, как птица, на крыльях ответственности.
В автобусе Арий посадил меня рядом с собой и, заметив, как я зубами пытаюсь извлечь занозу из пальца, покачал головой:
– Кошмар! Из горбыля сбивают, как ящики. А какие гробы в Америке! Фантастика!
– Вы были в Америке? – позавидовал я.
– Ну да, летал с делегацией переводчиков Уитмена. Зашел к коллегам. Не поверишь: гроб из полированного дуба, инкрустированный черным и розовым деревом, ручки позолоченные, а в крышке, напротив лица, окошечко! У нас таких никогда не будет…
– А статую Свободы видели?
– Да, зеленая, как залежавшаяся покойница…
Я вдруг понял: шоферы ритуальных автобусов знают какие-то тайные маршруты, к тому же прочие водители уступают им дорогу охотнее, чем «Скорой помощи», хотя, в сущности, зачем торопиться катафалку? На месте мы были через полчаса. Востряковское кладбище напоминало лабиринт, поросший пожелтевшими березками. С надгробных фотографий смотрели молодые, здоровые и даже веселые граждане. Наверное, все-таки правильней прикреплять к плитам и крестам снимки, сделанные в день смерти или похорон, а то кажется, будто в землю зарыли живых и бодрых людей. В одной из оград росла голубая кремлевская ель.
– Мужик работал в спецлесопитомнике, – объяснил Арий. – Как говорится, от безутешных коллег…
Возле свежевырытой ямы, на куче глины, подстелив брезент, сидели угрюмые могильщики, похожие на расконвоированных уголовников.
– Прощаемся! – скомандовал Арий.
Вова и Яша сняли крышку. Заостренный профиль Кольского словно бы оплыл, пока мы ехали до кладбища. Я подумал, что все видят это лицо в последний раз, скоро оно навсегда исчезнет и не повторится больше никогда, сколько бы миллиардов людей ни родилось на планете. Никогда. Вдовы, рыдая, с двух сторон припали к телу. Старшая воровато сунула в мертвые руки иконку. Младшая тщательно разгладила кустистые брови усопшего, словно это имело перед зарытием какой-то особый смысл. Тучный ветеран никак не мог наклониться, чтобы поцеловать Кольского: мешал огромный живот. Наконец толстяк тяжело подпрыгнул и клюнул покойного друга в лоб. Через десять минут работяги уже ровняли холмик. Бригадир лопатой перерубил стебли гвоздик, сложенных снопом под портретом.
– Воруют! – объяснил он и с надеждой глянул на меня.
Арий нехотя дал ему пятерку. Рыдающих вдов повели под руки. Я хотел заглянуть на могилу тестя, но грянул гром, в воздухе запахло железом, упали тяжелые капли, а потом обрушился сплошной ливень, и в автобус возвращались бегом. Я вымок и запачкал глиной новые ботинки.
– Разве это дождь? – усмехнулся Арий, смахивая воду с кожаного пиджака. – Вот когда хоронили Леонида Мартынова, была такая гроза, что гроб плавал в яме. Представляешь?
– «Вода благоволила литься…» – продекламировал я.
– Что?
– Это стихи.
– Чьи?
– Мартынова.
– Я думал, он прозаик.
Колунов поехал на поминки к старшей вдове в Лаврушинский переулок, а Ревич – к младшей в Безбожный, где «молодожен» Кольский получил квартиру в новом писательском доме. Арий с кладбища помчался к прозаику Анатолию Киму, икнувшему утром, узнав, что вопреки обещаниям его не выдвинули на Государственную премию. Наш Харон скончался через два года, сгорел на работе: презрев гипертонический криз, он встал с постели, чтобы организовать важные похороны классика-лауреата, в прошлом члена горкома. На панихиду ждали самого Гришина, нервничали, но тот прислал лишь помощника и венок. С поминок Ария увезли в больницу, откуда он уже не вышел. После его смерти писателей стали хоронить кое-как.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
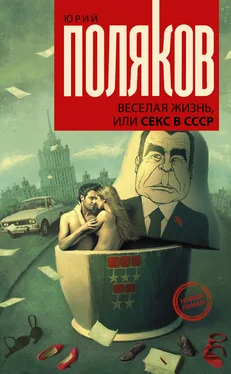

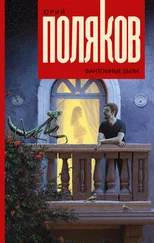

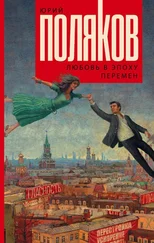

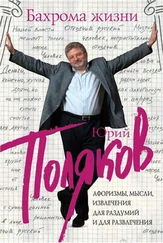

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)