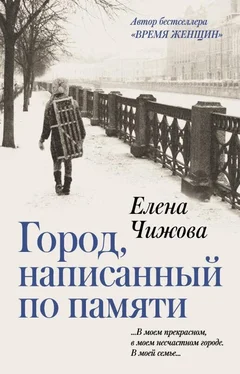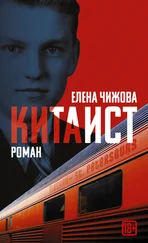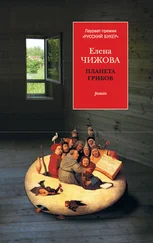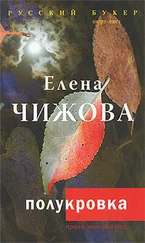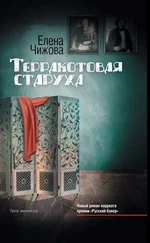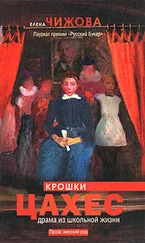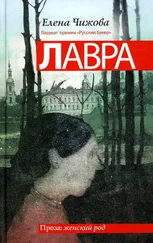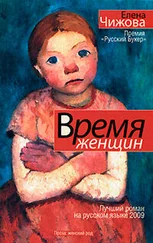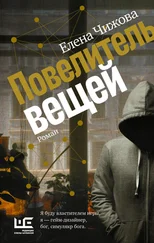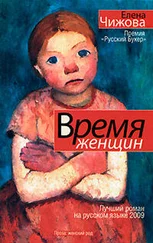Так или иначе, мы, оставшиеся, делали общее дело – никаких сомнений в этом у меня нет. Как, впрочем, и в том, что, оставаясь в границах общего дела, каждый из нас преследовал и свою собственную цель. Таким же двояким (а если угодно, двойственным) образом действовала и я, когда, копошась в своем углу, затворяла смесь: из глины с некоторой толикой песка.
Уходя за рамки символических смыслов, цель, которую я, помимо общих, для себя ставила: добиться верной пропорции языковых средств, литературных приемов, внутреннего смысла и наложенных на него слов – при том что сами слова, а равно и их сочетания, должны обладать тем особым, подлинным звучанием, которое возникает лишь там, где небесные звуки пробиваются сквозь навязчивые и одновременно невнятные шумы земли.
Преследуя эту цель, не порывающую с настоящим и глядящую не столько в будущее, сколько в прошлое (и именно по этой причине наводящую прочный понтонный мост между этими, разделенными настоящим временем, берегами), цель, прямо скажем, идеальную и, как любой идеал, вряд ли достижимую (но такая уж нам досталась эпоха – поиска идеалов [57]), – я держала ушки на макушке, внимательно наблюдая за результатами ученых штудий наших признанных вожатых, применявших в своей работе щадящую «римскую методику», согласно которой подлинные фрагменты не скрываются под новой кладкой, а ею окружаются – тщательно и со всеми возможными предосторожностями. Позже я приноровилась использовать ее в своей работе. И делаю это до сих пор, восстанавливая историю семьи.
Ошибется тот, кто из всего сказанного сделает поспешный вывод: будто мы, работавшие бок о бок, были сплошь единомышленниками. Когда речь о человеческой деятельности, единомыслие – идеологическая химера: из тех, коими уснащены средневековые соборные декоры в предупреждение либо в назидание беспечным потомкам. Как никогда со времен европейского средневековья, это универсальное правило дало знать о себе в наши черно-белые, те, мутные времена, отравленные отчаянием, принимавшим порой самые разные формы – от безотчетного страха до глухой тоски.
Остается только гадать, не по этой ли «формальной» причине наше тогдашнее новоначальное братство оказалось не таким уж, теперь я смею это сказать, невинным. Ведь в нем (кроме универсального, подстерегавшего всех и вся соблазна вступить в коллаборационистскую связь с оккупантами) был силен и прочен элемент обыкновенного бытового эротизма. Некоторые из нас (кто по недомыслию, а кто и по склонности своей нехитрой натуры) принимали эту соблазнительную сторону жизни за главную жизненную цель. А с другой стороны, быть может, им, вступающим в эти беспорядочные связи, казалось, будто тем самым они избегают других , упорядоченных, худших, к которым власть – желая направить энергию населения в русло ее собственных безумных задач и целей – надеялась их склонить.
Так или иначе, обетов – за редким исключением – мы друг другу не давали. Во-первых, обет сродни присяге (в партизанской среде присяги не практикуются). Однако нас останавливали и другие соображения: ведь в глубине души и положа руку на сердце мы знали: настанет день, когда наша общность рассыплется. Каждый из нас пойдет своим путем.
Надо признать, что, кроме вышеозначенных аспектов, был здесь, увы, и некоторый элемент театральности – вдохновенной игры в непреходящие европейские ценности, которые всяк из нас понимал по-своему. Возможно, именно по этой причине потом, уже в новую эпоху, когда оккупационная власть на короткое время пошатнулась (многие даже поверили, будто вражеское всевластие закончилось), далеко не каждый из нас выдержал этот новый искус. Правда в том (говорю об этом с горечью), что – после долгих лет испытаний – эфемерная, сиречь дарованная свобода не всякому застоявшемуся коню оказывается в корм.
Дошло до того, что в своем стремлении угодить постепенно приходящему в себя начальству некоторые, кто не выстоял, подвергли осмеянию наши и свои тогдашние устремления – с той же легкостью, с какой во всех предательских средах принято лгать. Конкретно же в нашем случае: ложь в первую очередь коснулась внутренних смыслов и моральных механизмов истории – чем дальше, тем успешнее их стали подменять мифами.
Однако, кто бы что ни говорил, то время не прошло для нас зря. Из долгих лет денной, а чаще нощной работы, когда каждый в меру сил (я имею в виду нас, послушников «петербургского текста» или, по мнению чужаков, его запоздалых данников) не то восстанавливал, не то охранял разрушенную врагами крепость, был вынесен ряд непреложных правил, оставшихся с нами на все последующие годы. Нам эти правила пригодились позже, когда, причастившись восстановительных работ: отработав положенное, выполнив – каждый свое – задание, мы углублялись в прежние лесные дебри, чтобы вновь, уже на новом витке своей творческой дороги, примкнуть к основному партизанскому отряду, с которым мы когда-то попрощались, свернув на узкую петербургскую тропу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу