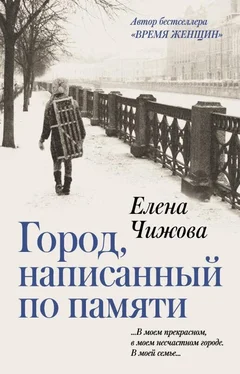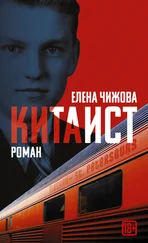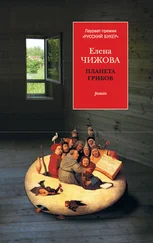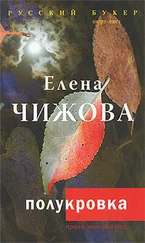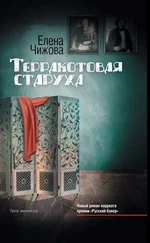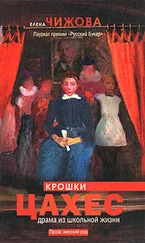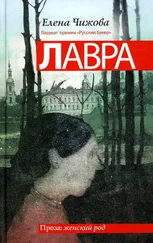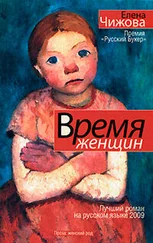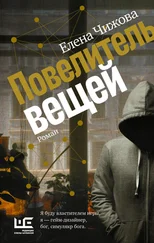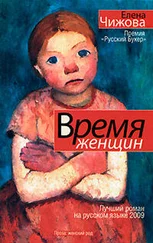Пока жизнь, взбаламученная великими потрясениями, еще не устоялась, в ней оставались узкие форточки, откуда тянуло сквознячком свободы – по крайней мере, в житейских делах. Но вскоре и они захлопнулись. Кому, с кем и на каких основаниях-условиях обживать коммунальную жилплощадь, с этих пор определяло государство – по собственному разумению и, разумеется, во благо себе. Непреложным правилом этого жилищного пасьянса стала практика доносов на соседей: с середины 1930-х и далее – важнейший инструмент социальной селекции. Со временем он слегка затупился, однако на помойку его не снесли.
Занимаясь решением масштабных задач (коллективизация, индустриализация, раздувание мирового революционного пожара), на всякие мелочи вроде текущих, а тем более капитальных ремонтов власть внимания не обращала. Вследствие чего Ленинград год от году ветшал. В первые десятилетия – медленно и постепенно. Фасады кое-как еще держались. Но электрические провода, водопроводные трубы, краны на общих кухнях, скрипучие половые доски, деревянные перекрытия, плашки когда-то натертого до блеска паркета – будто сговорившись, вели себя как участники контрреволюционного заговора. Внутренние враги. Ничем иным не объяснить такие враждебные – с их стороны – выпады, когда то вдруг рванет и хлынет с верхней кухни, то зашипит и вспыхнет голубым огоньком оголившийся коридорный провод, то отстанут и оползут со стены обои или в бывшей ванной комнате зашатаются кафельные плитки (ни дать ни взять цинготные зубы) и начнут одна за одной, а то и рядами выпадать. В общем, впору ставить вопрос о городе-вредителе.
Этот вопрос не заставил себя ждать. К середине тридцатых поползли упорные слухи, будто бы у Сталина возник план: чем ремонтировать, взорвать к такой-то матери. Сравнять «царские кварталы» с лицом земли.
Первым шагом к осуществлению грандиозного плана стало новое здание Горсовета, своим внушительным фасадом – декорированным в духе Альберта Шпеера, но с поправками на советские реалии и сталинские вкусы – выходящее на Забалканский проспект. По обеим его сторонам, точнее, под его крыльями, должен был проклюнуться – точь-в-точь гадкий утенок – новый, пролетарский, центр Ленинграда: чтобы со временем превратиться в прекрасного советского лебедя. Как ни странно, «окончательному решению ленинградского вопроса» помешала война. Своим конгениальным варварским планом – стереть «город Ленина» с лица земли – коварный фашистский диктатор связал по рукам и ногам своего советского визави: не станешь же, в самом деле, уничтожать то, что задумал уничтожить твой личный смертельный враг.
Дом, в который мы, отбыв положенный срок в далеком и нелюбимом Купчине, наконец переехали, пострадал помимо всех и всяческих планов. Попал под горячую руку войны. Слева – Главпочтамт, справа – Центральный телеграф. В эти важнейшие объекты городской инфраструктуры немецкие асы метили, надо думать, сознательно. Но то ли асы попались косые-криворукие, то ли с 5000 метров (высота, с которой велось прицельное бомбометание), как ни старайся, все равно промажешь – короче, Почтамт и Телеграф пережили войну с минимальными потерями. Все капитальные разрушения пришлись на долю стоящих между ними домов.
У нашего, № 13, полностью, до основания выгорело два флигеля. Сперва дальний – когда прямиком во двор-колодец угодила фугасная бомба [46]. Наш, фасадный, флигель сгорел через несколько месяцев: поговаривали, будто бы от керосинки. Якобы одна из жилиц, получив похоронку на единственного сына и тронувшись на почве горя разумом, разлила и подожгла керосин; вспыхнув на верхнем этаже, огонь пустился вниз, по пути пожирая деревянные межэтажные перекрытия. И в конце концов пожрал.
Первый послевоенный год дом лежал в руинах, но в 1946-м ему несказанно повезло. На его восстановление были брошены пленные немцы – соотечественники упомянутых асов, но, в отличие от тех, не криворукие. С присущей немецкой натуре добросовестностью (как потом выяснилось, не слишком зависящей от того, где именно развернут фронт работ: в Берлине, во Франкфурте или здесь, во втором по значению и первом по мукам городе одержавшего над ними победу врага), они работали за страх как за совесть, когда клали кирпич к кирпичу, паркетную доску к паркетной доске и завиток потолочной лепнины – к завитку.
Результатом их двухлетней работы стало то, что дом, поднятый из руин, вроде бы не отличался от прежнего, дореволюционной постройки, но в то же время стал «новым» – прошел, если так можно выразиться, внеплановый капремонт.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу