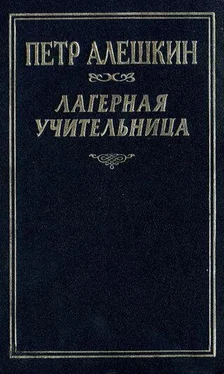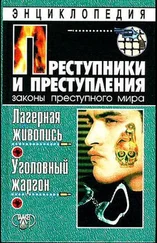— Я рада, что смогла тебе помочь!
— Ты?
— Ну да… Разве ты ничего не знал, тебе не сказали?.. Когда я узнала за что ты попал в колонию, я в тот же вечер написала в прокуратуру твоего Уварова, что ты непричастен к краже, назвала имя вора…
— Я считал, они сами взяли Губана.
— Жди от них, — опять смеется. — Ты прости: что я твой покой нарушила… Не выдержала я, мне так хотелось твой голос услышать. Прости!
— Что ты! — вскричал я. — Знала бы ты… — Я взглянул на своего сотрудника, ожидающего конца разговора, и повторил тише: — Знала бы ты…
— Ты не один?
— Да… Я тебе перезвоню, назови телефон. Я записываю!
— Ну-да! — ее смеющийся голос сводил с ума. — Записывай… Я скажу, а завтра встречай тебя, а у меня дети, внуки, я — седая бабушка — люблю покой… — шутила она, потом серьезно сказала. — Я сама позвоню тебе… Пусть живет в нас, как жило… — и нежно. — Целую! Целую!
Весь день стояла передо мной моя нежная персиянка, кстати, мать у нее таджичка, я видел ее черного бархата глаза, смуглое лицо, пухлые губы и черный, почти фиолетовый, пушок над верхней губой. Потом несколько месяцев ждал ее звонка, вспоминал Александров Гай, компрессорную станцию, библиотеку со старым, мягким, но ужасно скрипучим диваном. Ждал, томился: звонка не было. Тогда я решил освободиться от грусти, воспоминаний, выплеснуть их на бумагу. Что и сделал!
Но я знаю, верю, она позвонит, я вновь услышу в трубке смеющийся голос! И хочется верить, что когда-нибудь я обниму ее, мою седую бабушку…
Помню, четырнадцатого мая, когда меня провожали в армию, в Масловке расцвели вишни. День был по-весеннему яркий, теплый. Столы для прощального обеда поставили в саду. Родственников у меня много. Солнце яркими пятнами пробивалось сквозь ветви на белую скатерть, на тарелки с едой, ослепительно отсвечивало от бутылок, стаканов. Остро пахло теплой землей, цветами, самогоном. Когда на мгновение стихали песни и пьяный говор за столом, слышно было, как гудят над головами пчелы, а у речки в белых вишневых кустах беспрерывно щелкает соловей. Было радостно от того, что я уезжаю из деревни, что ждут меня новые впечатления, новые места, новые люди, и одновременно было грустно и тревожно по той же самой причине: что за впечатления меня ждут, что за люди?
Потом полдеревни растянулось по дороге, по мосту через речку. Шли на бугор, где всегда прощались с призывниками. Почти все были пьяны после долгого застолья. Шли медленно, орали песни, подшучивали над моими дядьями, которые набрались так, что выписывали ногами кренделя. Один из них сразу за мостом упал и не смог подняться, мгновенно уснул в теплой молодой траве под удалое щелканье соловья и возбужденные крики лягушек.
Мать моя, видя, что я ничуть не переживаю перед долгой разлукой, не грущу, тоже держалась стойко. А за столом всплакнула. Я чувствовал, что в душе у нее надежда была, что в армии я образумлюсь, отдалюсь от своих тюремных дружков. Она, как все матери, считала, что я только из-за друзей дважды попадал за решетку. Я тогда верил, что навсегда уезжаю из деревни. Не вернусь сюда больше никогда. Буду, конечно, заезжать к матери на денек-другой, на недельку, но жизнь моя будет идти в другом месте. Где? После армии будет видно. Из-за этих мыслей я со все возрастающей грустью поглядывал с бугра на деревню, на серые соломенные крыши, печально спрятавшиеся в весенней зелени ветел и тополей, на празднично белые от цветов сады, на большой луг со старым клубом посреди, где проходили все мои вечера. Когда я все это увижу снова? Разве мог я знать, что через полгода и три дня я буду стучать солдатскими сапогами по морозным масловским улицам.
В Тамбове меня быстро выкликнули из строя призывников, и через два часа я уже сидел в вагоне вместе с такими же тамбовскими волчатами, слушал стук колес, думал об украинском городе Ровно, где мне выпало служить. Моя воинская часть располагалась прямо на центральной улице, поближе к окраине. Вдоль тротуара шел невысокий зеленый забор из штакетника на каменном фундаменте. Перемахнуть через него можно было в одну секунду. Через месяц я принял присягу, и определен был в первый взвод первой учебной роты, где меня за полгода должны были сделать сержантом.
Командиром роты был капитан Сало, высокий, подтянутый, худощавый офицер с маленьким ртом и узкими щеками. Он мне сразу понравился тем, что на первом же построении, знакомясь с нами, вызвал из строя рядового по фамилии Жирный, худого паренька, оглядел его и сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу