— А там что, засушливое земледелие было?
— А чего я тебе про засухи толковал? — рассердился дед. — Глухой, что ли?
— Ну, извини, пожалуйста, — спохватился я.
— На всю жизнь первую тулайковскую лекцию запомнил, — проговорил дед. — Про земледелие он сначала не говорил — сначала он другой нам урок преподал.
— Какой?
— Рассказать?
— Ну конечно!
Дед хитро улыбался. Любил он так — на самом интересном месте поиздеваться!
— Ну ладно, расскажу! — наконец сжалился он. — Вошёл академик Тулайков на кафедру — в безукоризненном чёрном костюме, в белой крахмальной сорочке, в галстуке бабочкой. Впервые я тут, наверное, стал догадываться, что такое элегантность. Поздоровался, краткое вступительное слово сказал: надеется, мол, что мы не опозорим стен славного учебного заведения. Потом говорит: «А сейчас выполним первое задание. Возьмите карандаши!» Ну, карандаши нам выдавали там. «Откройте тетрадь в клетку. И на листе нарисуйте десять маленьких кружков, чтобы помещались в клеточку». — «А где их рисовать?» — кто-то спрашивает. Ну, фантазия у нас всех не очень развита была. «Где хотите, лишь бы они располагались на листе, — Тулайков вежливо говорит. — Как можно аккуратнее рисуйте — это важно». У многих, гляжу, от такой задачи пот закапал! Другое дело стог сена сметать или рожь молотить — там всё ясно, а тут... где размещать эти десять кружков, в каком месте? Ну, наконец все нарисовали по десять кружков, тогда Тулайков вдруг говорит: «А теперь положите этот лист аккуратно перед собой... Положили? Возьмите в руку карандаш... удобней возьмите... теперь крепко закройте глаза... — Все тут удивились, но стали закрывать, раз надо. — Теперь, не открывая глаз, постарайтесь — по памяти, только по памяти — поставить точки карандашом во все десять кружков. Даётся десять минут». Тут такая тишина в аудитории настала — редко когда в жизни я такую тишину слышал. «Вот, — думаю, — история! Куда же я наставил кружки?» Долго так неподвижно просидел, потом вспомнил вроде один кружок — ткнул, второй вспомнил вроде — ткнул. Так чувствуется просто, как минуты уходят. Незаметно приоткрываю один глаз. На свой листок не смотрю — понимаю, что нечестно было бы, — но к соседям подглядываю. Гляжу, у одного пять попаданий, у другого уже семь. Быстро зажмурился, стал тыкать карандашом. «Всё, — голос Тулайкова раздаётся, — время истекло, больше точек не ставьте. Откройте глаза, напишите свою фамилию и несите листочки мне». Открыл я быстро глаза: ни одного попадания! Понёс я листочек к кафедре, гляжу, люди даже с десятью попаданиями листочки сдают! «Ну всё, — думаю, — пропал! Посмотрит Тулайков мой листок и тут же обратно в деревню меня прогонит: нет у меня никаких способностей». Тулайков долго молча листочки разглядывал. Гляжу, соседи мои хорохорятся, перья распускают: «У тебя сколько?» — «У меня восемь!» — «А у меня девять!» Ну, я как в воду опущенный сижу, сейчас, думаю, скажут: «Вон из аудитории!» Тулайков что-то долго молчит, — видно, чем-то огорчён. «Дело в том, — наконец хрипло как-то заговорил, — что мировой наукой установлено, что попасть в эти кружки карандашом практически невозможно — при любой памяти и координации. Статистика допускает, что может быть случайное одно попадание... ну два. Фамилий я никаких называть сейчас не буду, но пусть те, кто в пять кружков попал или даже больше, скажут сами себе сейчас, как они это сделали!»
Гляжу, несколько человек вокруг прямо багровыми стали. Постучал Тулайков по кафедре — подошла к нему молодая лаборантка. «Пожалуйста, — Тулайков ей говорит, — сожгите эти листки прямо здесь, и пусть навсегда тайной останется, кто сколько кружков поразил. Только хочу я вам сказать, дорогие мои ребята, что таким путём добиваться успехов в жизни, как некоторые сегодня пытались добиться, бесчестно и, мало того, бесперспективно! С таким подходом можно чего угодно добиться: чинов, славы, но учёным, настоящим учёным так никогда не сделаешься. Засим прощайте, до завтра!» И с кафедры сошёл.
Обычно при выходе из аудитории толкотня шла, возня, гогот, — а тут тихо все выходили и молча расходились.
— Ну и что? — нетерпеливо спросил я. — Из тех... кто сжульничал тогда... так ничего и не получилось?
— Да нет, — после долгой паузы проговорил дед. — Некоторые из тех даже в академики вышли... поняли после этого, что к чему.
— Так... а потом что было? В деревню свою ты больше не приезжал?
— Нет, почему, приезжал, конечно же, много раз. Но в принципе с момента отъезда в Саратов — то есть с шестнадцати с половиной лет — вёл уже полностью самостоятельное существование, на своих корнях: никогда ни у кого ничем не одалживался, понимал, что только на то ты имеешь право, что заработал! И прожил так до семидесяти трёх лет... И отлично себя чувствую! — улыбнулся дед. — Во — мускулы какие! — Он снова согнул руку. — Ну, а в следующее лето, после окончания первого курса, послали нас всех на уборку урожая, в заволжскую степь. Там, где вырос я, сухие были места, но Заволжье!.. Это сейчас там мелиорация, трубы с водой, — а тогда воду для питья за сто километров в железных бочках возили. Представляешь, какой у воды вкус, когда её за сто километров по раскалённой степи в железной бочке везут?
Читать дальше


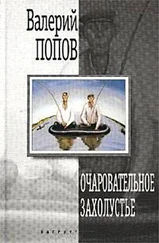
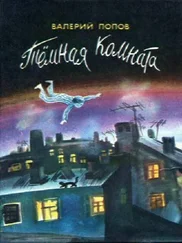
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
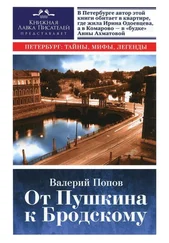
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)