— Ах, у них нет проблем? Так они у них будут! — Поцелуев воинственно схватился за другой телефон.
— Звоните... буду дома. — я вышел.
Процесс захвата власти Аглаями Дмитриевнами (обоих полов) я себе ясно представлял — они меня даже в моем любимом издательстве довели до слез и рукоприкладства!
А Поцелуев, как ни странно, меня любил — тем довольно большим остатком души, что не вмещался в постановления и инструкции; главное, что душа была. Мог вдруг полюбить вопреки инструкции, а эти — против своей инструкции — не полюбят никогда! Так кто же хуже? Я понимал, что мне с моими мыслями — крышка, потому как все сейчас двигается в аккурат против первых. Что же делать? Писать модные детективы? «Тайна мусоропровода», «Две головы профессора Морозова»? Не потяну! И вовсе не из снобизма: гораздо больше ненавижу претензии на высокую заумь. В ней можно надменно просуществовать всю жизнь, но никто из земных не посягнет на «высокое». Вот наш главный мыслитель, Огородцев, задумчиво курит на обложке брошюры, выставленной за стеклами всех ларьков. Никто и не подумает прочитать, но все поучительно понимают — судя по втянутым щекам, по глубине затяжки — мыслит о вечном. Такие головы тоже нужны: они думают, мы отдыхаем. Идти в этот туман стыдней, чем в халтуру, поэтому я халтурой не брезгую — там все в открытую. Но и для этого, надо признать, не то имею устройство головы! Поначалу нравится — и сыщик симпатичный, циник и бабник, и люди живые, но в конце — обязательно, обязательно! — должна быть залимонена такая глупость, которая требует чего-то особенного. Загадка эта неразрешима. То ли глупость демократична? То ли все это — для радости читателя: надо же, а я-то сразу догадался! Ох, трудно! Придумаю глупость — озолочусь!
А пока — пирожка бы! Может, взять себе псевдоним: Жуйветер? Или — Жуйснег. Напечатаю объявление: «Сдам квартиру с бутербродом на два месяца»? А самому где жить? «Сдам квартиру без бутерброда на один месяц»?
Пес меня встречает своими объятиями, горячо дышит, принюхивается: не ел ли я чего без него? Не ел, не ел. Отвали.
Снова сидеть за письменным столом, срывать с рукописей скрепки, как эполеты, складывать листочки в архив? Кто узнает о них? Даже КГБ теперь не заинтересуется.
Луша, которая комсомольской активисткой возила меня по захолустью, «встречая» меня с доярками и шоферами, словно провалилась куда-то. По слухам — «взлетала». Я не знал еще тогда, что через полтора года встречу ее в самом соку, в зените славы.
И все-таки не был я тепой-растелепой, соображал, как надо повернуть, где у ключа бородка, а где уступ; знал ловкий набор неловкостей: трогательных, вызывающих сочувствие. Сообразим, разберемся... но как? Примыкать к стройным рядам «душимых», тех, кого раньше «душили», а теперь — их черед? Как-то неохота. И так ли уж меня душили — пил, как лошадь, через день?
Тупик! Приехали! Поехал на неделю в Москву — может, найду в столице что-нибудь интересное? Но там все почему-то набились в комнатку, где я остановился, и смотрели на меня.
Всегда женщины, женщины манили меня вперед! «Свобода на баррикадах»! Где она?
Вернувшись, упорно звонил Поцелуеву — он, так же упорно, не отвечал. От телефона, умолкнувшего в учреждении, всегда веет ощущением паники. Переворот?
В общем, ясно уже — денег за «проблемы женщин» я не получу: гигнулся Поцелуев... «Сдам двухкомнатную квартиру» — развешивал объявления. Особенно правилось — ух! Ух, сдам!
Понял, что дошел до ручки, когда выхватил у нищего из кепки монету, чтобы позвонить. Чуть было не убили. Особенно возмущались, конечно же, те, кто в жизни ни одной монеты не дал!
Друг, встретив меня на улице и оценив ситуацию, пригласил в пивную Дома журналистов. Не в булочную же меня приглашать. Вот где я и встретил Поцелуева и понял — конец. Еще на студии Поцелуев начал отращивать бороду — для контактов с либеральной интеллигенцией, — но то была небольшая, холеная, я бы сказал, строгая бородка. А ныне она была какая-то дикая, клочковатая, и под стать ей безумным светом горели глаза. Поцелуев сидел за соседним столом с каким-то бородатым парнем и пил водку, как и мы. Время от времени он делал уверенные, властные жесты, раскатисто басил — и я успокоился. Все на месте! Ну, загулял мужик (только странно, что в таком месте, где никогда раньше не гулял), ну и что с того? Бывает. Но он явно в прежней силе: вон как рявкнул на официанта, и тот, разбираясь кто есть кто, мгновенно, «на цырлах», прилетел с графинчиком в руках. Теперь надо лишь улучить момент (опьянение у него шло волнами: то накатит, то отхлынет) и небрежно заговорить с ним о проблемах женщин с последующей проблемой оплаты: «Я тут уезжал ненадолго. Что новенького?» Но по мере того как я наблюдал за ним, надежды рушились: нет, уже не вернется он в прежнее состояние — и знает это! Он вдруг мощным церковным речитативом завел на весь дымный зал какую-то медленную грозную песню — и я окончательно понял: все рухнуло. Стекла дребезжали: все больше людей в зале подхватывали песнопение. Побороли монстра, кормившего нас! Отходная? Отпевание?
Читать дальше
![Валерий Попов Избранные [Повести и рассказы] обложка книги](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-cover.webp)
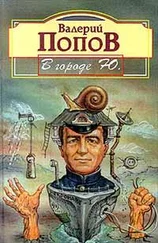



![Валерий Старовойтов - Возмездие [Повесть и рассказы]](/books/410983/valerij-starovojtov-vozmezdie-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)

