— Господи... неужели ради этой... серьезный капитан будет смотреть не вперед, а назад? И — видали мы этот «зеленый луч»! Вон он сидит, зеленый с похмелья.
— Вы что-то имеете против любви? — процедила Луша.
Да, такой трудной любви в жизни не было! Но кто тебе сказал, что жизнь будет становиться легче? Скоро — подъемным краном придется поднимать.
— Я, пожалуй, пойду, Григорий Матвеич? — играя всеми своими формами, спросила Луша.
— Иди, иди, — задумчиво произнес Лысый.
— Да, вы поняли, надеюсь, что я дворянка? — Луша злобно вперилась в меня: еще бы — единственная преграда между нею и миллионами!
Я промолчал. Получишь ты, Георгич, по башке, честное слово, получишь.
Луша направилась к выходу, но вдруг дверь распахнулась, и вошел мой Костюм. Все почтительно встали.
— Ну, как работается? — осведомился он.
— Сложный товарищ. Хамит, — тут же нажаловался Лимон.
Когда это я хамил?
— Балованный больно! — вскричал Крепыш.
Вот это, пожалуй, верно. Да, избалованный, но исключительно самим собой!
— Нам такие и нужны! — строго произнес Костюм. — Широко мыслит. Постарайся не подкачать!
— Я пойду, Авенир Максимыч? — Луша на этот раз обратилась уже к Костюму и сноровисто переступила, как застоявшаяся лошадь.
— А с тобой у нас будет особый разговор! — холодно ответил ей тот.
Луша горделиво вышла. Тоха поплелся за ней.
Ну, ясно, кто опять здесь главный. Я.
— Надеюсь! — Костюм положил мне руку на плечо.
Ну а на кого же еще надеяться? Я вздохнул.
— Пусть он тут у нас посидит! — показал свою расторопность Лысый. — Что-нибудь нужно? — спросил он у меня.
Если б они что-то нужное могли дать! Я вздохнул.
— Если что, звоните прямо мне! — величественно проговорил Костюм и удалился.
— Все понял? — Крепыш полосанул костяшками пальцев мне по губам. Это, как я понимаю, его работа. Все при деле.
— Ну все, все! — я стал их выпроваживать.
Кто-то, видать Лимон, долго громыхал запорами на железной двери. Затихло...
Так я сразу и начал! Я прошелся по залу. Интересные здесь орудия пыток. Вот дыба. Ноги вдеваются в железные башмаки, руки — в железные рукавицы, и ты всеми силами пытаешься удержать свой вес, а дыба медленно, со скрежетом тугих пружин, тебя растягивает. Вот другое: пристегивают за ноги к наклонной доске — и ты, чтобы голова не переполнилась кровью и не лопнула, должен напрягать пресс, поднимать голову, садиться, снова падать и снова подниматься... умирать-то от кровоизлияния неохота!
Покачался и там и сям. Силушка заиграла. Эх, сейчас бы всех раскидал — жалко, ушли.
Вдруг зазвонил телефон: тяжелая железная трубка в тесных «военно-морских» зажимах, тоже похожих на орудие пытки... с трудом вытащил.
— Алле!
— Неужели вам, Валерий Георгиевич, ни о чем не говорит слово «любовь»?
Ну, почему же не говорит? И не только — «о чем», но и «о ком»! И в том самом ракурсе, как любит она.
— Говорит! — отчеканил я.
— Надеюсь! (Не без кокетства.)
...Почему же — «не говорит»? Помню, однажды в Крыму в таком же взвинченном состоянии, как сейчас, на почту зашел. Да-а-а... Почта в Коктебеле — это совсем не то, что почта в наших хмурых краях! Здесь это только — отделение связи, а там!.. Прямо с яркого солнца, с жары, где все раскрытые, раскаленные... Входят на почту: темновато, прохладно, хоть и южное, однако государственное учреждение. Слегка прикрываются распахнутые на груди рубашки, но ноги? Ноги-то куда девать — откровенно выпуклые, голые, они оказываются не только неприлично возбуждающими, но и, неожиданно, грязноватыми, по колено в пыли, а повыше, в более нежных местах, в сиренево-серебристом налете соли, кое-где прочерченном сухими острыми стеблями. Куда брели эти ноги, не разбирая дороги? Было и темно, и душно, и хорошо — не до царапин. А теперь обладательницы ног прячут их одну за одну, сжимают, смущенно стараются, чтобы их меньше было заметно. Но не спрячешь! И я после очередной отчаянной попытки дозвониться в страдании, переходящем в наслаждение, шарил по ним глазами. Человеку в таком состоянии все простительно. Сладость росла. Это еще с детства: страдание из-за невыполненной контрольной, перерастающее вдруг в толчки восторга.
«Идет бычок, качается, кончает на ходу, никак не догадается, кого имел в виду!» И я увидел — кого! Вот кому я смогу излить всю горечь многострадального своего существования! Она шла совершенно спокойно, не зажимаясь, не пряча неприличия, а, наоборот, выставляя — в тесной майке, в рваных джинсовых шортах, чуть сопревших в горячем месте. Я схватил ее тонкую руку с сизым морским налетом: мои пальцы оставили три светлых следа; она остановилась и спокойно посмотрела на меня, словно этого и ждала. Мы пошли с ней в мою клетушку, где-то рядом терлась и похрипывала свинья, мы тоже потерлись и похрипели, и я излил всю накопившуюся соленую горечь — как много, оказывается, ее было во мне!
Читать дальше
![Валерий Попов Избранные [Повести и рассказы] обложка книги](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-cover.webp)
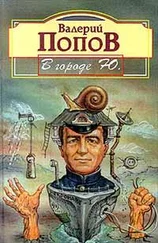



![Валерий Старовойтов - Возмездие [Повесть и рассказы]](/books/410983/valerij-starovojtov-vozmezdie-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)

