— Что-то мне все это напоминает, — сказал я Генриху, и он сразу понял меня.
— ЛЭТИ, что же еще! — сказал Генрих.
Но больше всех, конечно, из их «команды» прославился Ким Рыжов, писавший весьма популярные песни, к примеру, «Парень с Петроградской стороны», которую он замечательно исполнял, не умея произносить букву «р», что придавало исполнению особое обаяние. Много «парней с Петроградской стороны» прославили наш город, и Ким Рыжов — только один из них.
Был он маленький, лысый, курносый, веселый, заводной. Довольно рано его настигла тяжелая болезнь. Сначала ему отрезали одну ногу. Но он и на костылях всюду успевал, как бы не обращая на них никакого внимания, веселился, шутил, писал песни. Потом ему пришлось отрезать до самого основания и вторую ногу, но, к сожалению, и это его не спасло. Однако и в последней своей больнице он был как всегда весел, разговорчив и даже инициативен. Весь персонал больницы влюблен был в него, а некоторые медсестры, как сказал мне Рябкин, особенно. «Я говорю его жене: „Ну что ты выдумываешь! Он же без обеих ног”! А она отвечает мне: „Ну ты же прекрасно знаешь, что это его не остановит”! Вскоре Рыжов умер. Вот такие были «парни с Петроградской стороны».
После волшебных прогулок по Петроградской я заходил-таки и в родной вуз. Учиться в нем было очень интересно. Нет ничего совершеннее точных наук. Кафедра акустики, где я писал диплом, стояла отдельным домиком-башенкой весьма затейливой архитектуры. Внутри нависали полукруглые своды, сохранились от прежних витражей отдельные цветные стекла. Как я узнал позже, это была часовня лейб-гвардии Гренадерского полка. Тут молились и отпевали воинов. В наши дни тут кипела научная жизнь — ну и обычная тоже кипела.
Перед самой кафедрой был спуск к воде, поросшие подорожниками пологие песчаные ямы. Тут я нередко блаженствовал, ожидая начала работы. Первыми появлялись рабочие — слесари, фрезеровщики, гальваники из мастерской на первом этаже. Некоторые из них, используя талант и служебное положение, «склепали» себе кой-какие плавучие средства и прибывали на них. Это, конечно, было романтичней, комфортней, чем толкаться в метро. И вот — утро, река, туман и издалека слышится — тук-тук-тук: съезжаются!
Мой диплом, «коагулирующая ультразвуковая установка», создавался нашими общими усилиями здесь, а испытывался неподалеку, в мукомольном цеху хлебозавода на Выборгской стороне. От вибраций моей установки крупицы мучной пыли, входя в резонанс, слипались в комочки, которые на весу уже не держались и падали вниз. Воздух очищался, и все видели, наконец, друг друга и могли свободно дышать.
После испытаний мы привозили установку на кафедру, разбирали ее, меняли схему. То были дни увлекательного труда — и волшебного отдыха. По уговору со сторожем я часто оставался здесь и спал в комнате архива, на старых мягких чертежах. Когда все вокруг засыпало я, крадучись, выходил из будки и шел в Ботанический сад. Там, в душной стеклянной оранжерее в известные мне дни, а точнее, ночи, дежурила лаборантка Таня. Я подходил к ограде, пролезал между прутьями, раздвинутыми мной однажды в порыве любви, и вдыхал сладкие запахи тропиков.
И вообще, Петроградская сторона — остров счастья. Как хорошо погуляли мы там, будучи студентами! Сколько уютных улочек с башенками на угловых домах видели наши тайные прогулки с красавицами-студентками. Сколько чудных уголков на Петроградской обнаружили мы! Чего только стоят отходящие в сторону от Большого проспекта узкие кривые улочки с манящими названиями: Бармалеева, Плуталова, Подковырова! В отличие от регулярного центра Петроградская представляет собой вольное, не стесненное ничем сочетание самых разных архитектурных стилей, поэтому, когда идешь по ней, взгляд твой радостно прыгает с одной стороны на другую. На берегу Карповки стоит огромный конструктивистский дом. Почему-то он не кажется чужаком среди старых домов Аптекарского острова, отделенного Карповкой от остальной Петроградской. Уютно и органично изгибается он вдоль берега, у него огромные окна и лоджии, он весь собой как бы обрамленный свет. Несомненно, он устремлен в светлое будущее, в наступлении которого были все уверены в те годы. В его квартирах просторно и светло. Но зато нет, например, кухонь. Люди будущего, и женщины в том числе, не должны были возиться с посудой. Перед ними стояли более важные задачи. А для питания должны были быть выстроены огромные фабрики-кухни, где все должны питаться вместе, чтобы не было никаких тайн. У этого дома также не было крыши. Вместо крыши был огромный открытый солярий, где люди будущего уже сейчас должны были заниматься физкультурой и спортом, читать стихи, наблюдать звезды. Но будущее оказалось непредсказуемым — вернее, предсказанным неверно. Почему-то некоторые отщепенцы не захотели питаться открыто и на людях, и в темных углах этих светлых квартир закоптили керосинки. Квартирный кризис заставил селить людей в бывшем открытом солярии, накрыв его крышей и разгородив. Мечта о новых людях, вечно загорелых романтиках, сменилась коммунальными склоками. Правда, когда я стал там бывать, солярий, забранный крышей, превратился в мастерские художников, там стало интересно и волнительно. То были островки свободы — туда можно было прийти когда угодно и с кем угодно. Вы понимаете меня? Только иногда терпеливый хозяин, оторвавшись от работы, спрашивал робко: «Я вам не мешаю?»
Читать дальше
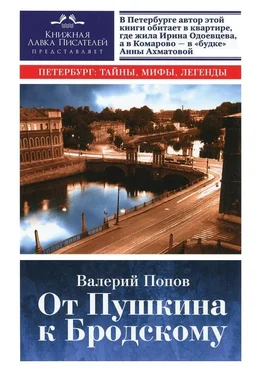


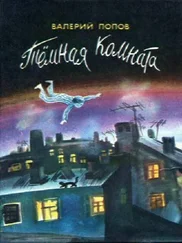
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)