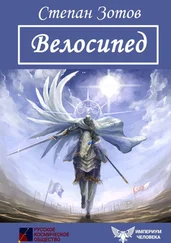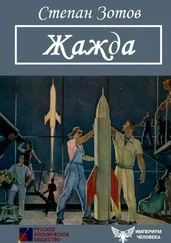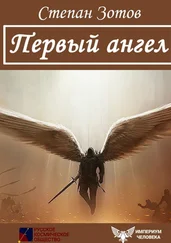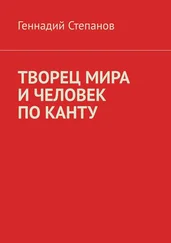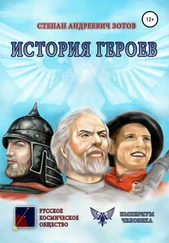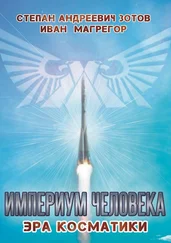В первой фазе своего развития популяции с нравственностью и правда показали куда лучшие результаты, довольно быстро или вытеснили, или подчинили безнравственные и оттого хуже организованные популяции, захватывая новые ареалы, и стали доминирующей популяцией, стремительно размножаясь. Но новая версия инстинктов не могла так быстро закрепиться у всех людей, ведь на это нужно очень много времени. Нравственные популяции имели много людей с совестью, но не состояли из них целиком. Пока популяция находилась в тяжелых условиях конкурентной борьбы с соседями, внутри нее ценились нравственные люди, способные жертвовать своими интересами ради других. Таких выдвигали в руководство (а в тех условиях безнравственные просто не тащили задачу), такие получали более высокий статус, а значит, они имели преимущество в размножении. Церебральный сортинг приводил к увеличению количества нравственных людей в социуме, социум становился более пассионарным и более прогрессивным. Так рождались великие империи: на плечах великих героев, под стягами великих героев, для всех людей доброй воли.
Но вражины рано или поздно заканчиваются, соглашаются на капитуляцию или уходят прочь, и нравственный социум, подавив конкурентов, заслуженно приступал к спокойной жизни. Возможно, на окраинах великой империи и бывало еще неспокойно, но в центральных регионах опасностей уже не было никаких, и великие герои теряли свою абсолютную ценность для общества. Несмотря на то, что нравственные руководители гораздо выгоднее для социума, в спокойных условиях конкурентные преимущества тихой сапой стали получать люди с более древним социальным инстинктом — эгоцентричным. Несмотря на то, что социальная логика принуждала их вести себя в соответствии с принятыми нормами, инстинкты позволяли им нарушать принцип равноценного обмена, если им удавалось избежать наказания. Там, где совестливый человек, даже если у него будет возможность, не обманет и не украдет, предпочитая остаться бедным, но честным, эгоцентричный и украдет, и обманет, тем самым получив вожделенный социальный статус и доступ к приоритетному размножению. Главное для него в принятии решения — это вопрос вероятности ответственности. Множество таких идущих к успеху пацанов были разоблачены и им не фартануло, но какая-то часть таки пробивалась. Чем больше пацанов приходило к успеху, тем меньше шансов было у нравственных людей: воры и бездари не хотели бы понести ответственность, отчего по возможности объединялись в круговую поруку и чинили препоны попаданию во власть для нравственных людей. Благодаря этому процессу со временем справедливые, мудрые и отважные вожди заменялись безнравственными, бездарными и трусливыми, ведь условия жизни общества были проще и уже не требовали выдающихся руководителей, и выполнять эту функцию благодаря ранее наработанной организации могли даже бездарности, главное чтобы у них были соответствующие родственники.
Процесс гниения Датского королевства ускорялся из-за династической передачи капиталов и власти, что приводило к прогрессирующей дегенерации в элитных слоях из-за нарушения принципа равноценного обмена и обилия мутагенных факторов, прежде всего алкоголя и династического инбридинга. Гниение с головы постепенно распространялось и на всю рыбу, потому как эгоцентричная и безнравственная верхушка, не желая выглядеть нарушителями социальной логики (этики), изменяла ее под свои нужды, и церебральный сортинг в популяции запускал обратный процесс дискриминации совести и репликации эгоцентризма. Социум снова начинал заполняться эгоцентричными людьми, слабел, дробился на фракции и впадал в усобицы, больше не мог поддерживать прогрессивные формы организации, не мог концентрировать свои, иногда громадные, но уже бесполезные ресурсы для разрешения кризисов и угроз, и рассыпался при одной из них. Кроме того, в безнравственной популяции начиналось вырождение, что делало ее больной, апатичной и приводило к спонтанной депопуляции, благодаря чему ее относительно быстро подавляли менее развитые, но более здоровые социумы, иногда даже без войны, чисто демографически.
Сия печальная история не единожды повторялась, и прочно закрепиться прогрессивному социальному инстинкту совести в аспекте зерга и социальной логике в аспекте протосса не удавалось: злая стихия все так же отбрасывала эволюцию с ранее занятых позиций, а устаревшие инстинкты прочно вцепились пудовой гирей в ногу человечия, не позволяя сделать решительный шаг в светлое будущее. Наверное, именно это явление И. Ефремов считал извечным инферно… впрочем, рассуждения его довольно пространные, и на этот глобус можно натянуть не один десяток сов. Да и проблему он считал неразрешимой. Я так не считаю, в конце концов, эволюция преодолевала и не такие противотанковые рвы, и в этом дельце мне понадобится русский социальный проект.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
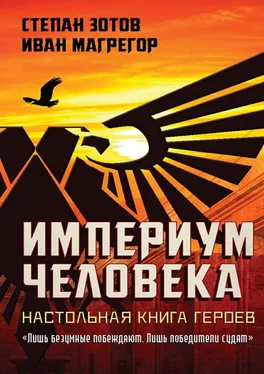
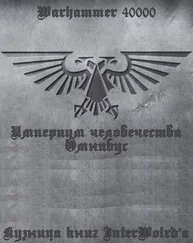
![Кейт Лаумер - Берег динозавров [Империум. Берег динозавров. Всемирный пройдоха]](/books/73716/kejt-laumer-bereg-dinozavrov-imperium-bereg-dino-thumb.webp)