Аникеевы речи слушал народ приезжий, сочувствуя и одобряя, тем более что встречал он гостей не скупясь.
А народ приезжал непростой: майоры, полковники милицейские и даже армейский генерал из Москвы Чапурин, но тоже родов Басакиных; профессор из университета, начальники из района и области; серьезные бизнесмены: хозяин гостиниц и ресторанов Хныкин со взрослыми сыновьями, которые тоже при деле; Талдыкины да Черкесовы…
Все они чтили свое казачество, родство, гордились им, видели горький исход. Сочувствовали Аникею, порой помогали.
Но у каждого давно уже была своя налаженная жизнь, которую не поворотишь. Один лишь Павел Басакин — военный летчик, обещал и обещал твердо: «Вот отлетаю и здесь поселюсь. Пригоним дебаркадер, на устье поставим, Иван Подсвиров тоже демобилизуется. Николай Черкесов… Наведем военный порядок. База рыбацкая, охотничье хозяйство, конноспортивный лагерь для молодых казаков», — планировал он уверенно. Но потом уезжал, как и все остальные. Уезжал, улетал в далекие страны: Африка, Индия. Уезжал, но долго помнил праздничный день: Троицу, Явленый курган, речные воды, терпкий степной дух, сердечные разговоры в ближнем кругу и, конечно, песни:
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя!
Особенно хорошо получалось, когда привозили из райцентра голосистую Марковну да Ивана Переходнова.
Не для меня придет весна
И Дон широко разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств не для меня.
Пелось и слушалось так хорошо, что даже сердце щемило:
А потом:
Пчелочка златая,
Что же ты жужжишь?
Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль…
Вдаль не летишь.
Это уже весело, порой с плясом.
Славный получался праздник. Но недолгий. К вечеру разъезжались. Наутро будто и не было ничего.
Речка, просторный Басакин луг да задичавший Басакин сад, огромная речная долина, которая тянется на десятки верст, от Венцов, Голубинского, Теплого — когда-то хуторов людных, казачьих, от балок ли, провалов Чернозубова, Сибирькова до Монастырского ли, Церковного до Явленого кургана, Скитов и самого Дона. И везде — тишина, безлюдье.
Редкие гурты скота да овечьи, козьи отары. Машина порой пропылит. Это Аникей Басакин харчи своему пастуху повез и заодно выбирает места для покосов. Теперь — самое время. А может, кто-то из пришлых, свои ли, чужие.
Машина пробежит, уляжется пыльный хвост. И снова тишина, безлюдье. Лишь редкие нынче суслики посвистывают да черные коршуны сторожат поднебесье.
Тишина. Троицкие травы цветут, пахучие, терпкие: сиреневый чабор, розовый железняк, местами — шалфей, белый и желтый донник-«буркун», пылит горькая полынь, стелются, словно текут ковыли, серебрясь на солнце. Кое-где на месте давно оставленных людьми хуторов, которых знак — лишь могилки, там — кресты, железные надгробья; на них недолго, но ярко светят цветы неживые, добела выгорая под жарким солнцем.
Эта память на короткий срок.
Долгую память храня, высится над степным покоем курган Явленый. Годами древний, но как и прежде — могучий, он вздымается над водой и землей, словно огромный храм.
Именно так — храмом Господним называла этот курган великая праведная старица, знаменитая игуменья Ардалиона, которую в годы прошлые знали все. В нынешнюю — немногие, но все же помнили, чтили. Потому что она была из этих краев, родом Басакинских, по отцу — Атарщикова.
Но все это тоже — лишь долгая память.
Вечером солнце садилось в синюю тучу; недолго полыхал просторный багровый закат, а потом сразу смерклось, стемнело, как и положено в пору осеннюю.
По обычаю, Иван улегся спать рано и разом уснул, как всегда, за день намаявшись; но среди ночи проснулся: он чутко спал, тоже по здешнему обычаю. Нынче встревожил и разбудил его какой-то недобрый сон или необычный звук. Иван недолго полежал в постели, вслушиваясь и ничего не услышав, но все же решил подняться, выйти на волю: мало ли что… Фонарь зажигать не стал. Одежда была на привычном месте, искать не надо. Куртку накинул да сунул босые ноги в сапоги, дверь отворил и замер на пороге.
В тесном вагончике, жилье нынешнем, было темно, но привычно: стены, крыша, пол, любая вещь под рукой, лишь шагни да пошарь.
А через отворенную дверь вдруг навалились глухая темь и глухая тишь. Даже дыхание перехватило. За спиной — нажитое тепло, за порогом — тьма непроглядная, словно черная вода: ни земли, ни неба. Иван почуял тошнотворный обморочный страх. Раньше такого не случалось, сколько прожил здесь. А вот теперь… Рука сама собой потянулась к ружью, которое висело рядом с дверью. Снаряженное ружье, от волков. Щелчок предохранителя, рука — на ложе. И сразу стало легче. Но темь кромешная и мертвая тишь никуда не делись.
Читать дальше


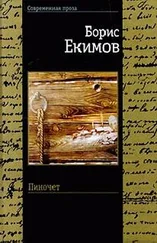

![Борис Екимов - Житейские истории [сборник]](/books/413591/boris-ekimov-zhitejskie-istorii-sbornik-thumb.webp)







