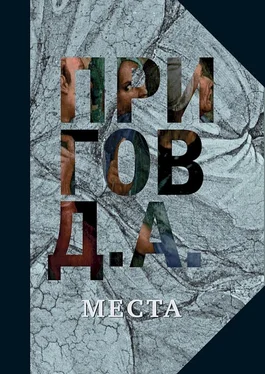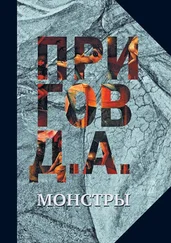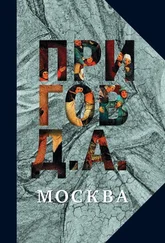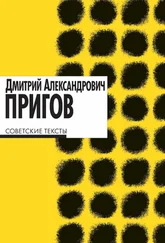Приведу некоторые примеры «грамматик»:
Если местного волка назначить премьер-министром
То ситуация обнищания полей по глубокой осени будет выглядеть как советник Президента по государственной безопасности
А березняк при сем будет явно министром
иностранных дел
Ворон — военный министр
Зайцы — конструктивная оппозиция
А министр финансов? — а министр финансов улетел!
он — перелетный
…
Президент — это я
Премьер-министр — это ты
Первые замы — это он, она и оно
Совет безопасности — это мы
Министры — это вы
Все остальные — это они
(«Назначения», 1996)
Казнить надо по частям — сначала отрубают ноги,
потом руки, потом голову, ну а потом,
если что остается — то и это
* * *
Читать надо по частям — сначала начало,
затем, нет, не середину, а конец,
и уж затем середину, ну а потом,
если останется — то и это
* * *
Губить надо по частям — сначала самого главного,
затем беспомощных последователей, затем уже
и всяких неявных соратников, ну а потом, если что
останется — то и это
(«Технология последовательностей», 1998)
Есть три вида любви
Прямой — он либо прекрасен, либо ужасен
Иносказательный — как в примере
с невестами Христа
И ошибочно принимаемый за таковой
со стороны, что грозит иногда
прямо-таки смехотворными
положениями
* * *
Что может сравниться с глазом? —
По подобию — любая мощность
По равенству — любой волосок
По контрасту — меховая шкура
* * *
Что может сравниться с меховой шкурой? —
По подобию — скрытая масса Вселенной
По равенству — могила
По контрасту — ясное и чистое вербное
воскресенье в аккуратном пригороде
(«Три грамматики», 1998–2003)
Приговские грамматики могут быть не так структурно симметричны, как эти примеры. Допустим, «Ыводизсе Го» (2000) как будто бы даже разворачивает какой-то сюжет (вполне бессмысленный), однако главной целью этого текста является демонстрация специфической «приговской рифмы», основанной на трансформации повторяемых слов в необъясняемое и остраняющее «мистическое» имя путем произвольного сдвига интервала между словами — прием, широко используемый Приговым в текстах 1990–2000-х годов:
Терентич, это я — сосед
Дима
С четырнадцтой квартиры! —
Но он ни слова мне <���в> ответ
Лишь только Цтойкв Артиры
А пес внимательно глядел
Глаза не опуская
Как откровенный Льногл Ядел
Или Еопус Кая
Какой
Да, да, действительно
Как Еопус Кая
По сути дела, к каждой из этих грамматик, как, впрочем, и к азбукам Пригова, приложима декларация из Предуведомления «Трем Грамматикам»:
Данная Грамматика служит выстраиванию последовательной цепочки связи всего со всем. Собственно, вся культурная деятельность человека и есть перебирание грамматик подобного рода, выстраивание метафорической повязанности всего во всем через некоторое количество операций.
И если полагать, что установление всеобщей связи явлений и есть задача поэзии, то Пригов действительно предлагает грамматики поэзии . Он совершает революцию в русском стихе, выдвигая в качестве наиболее насыщенной основы ритма грамматические и риторические структуры, чем, безусловно, подготавливает произошедшее в 2010-х годах раскрепощение русского стиха от силлабо-тонического метра. Сам Пригов не без лукавства объясняет свои реформы «демократизацией стихосложения»:
… я встал на сторону простого стихотворного народа… Давно уже некоторые фрондирующие своей близостью к непоэтической народной массе поэты начали писать с утерей регулярного поэтического размера и рифмы. Но простому народу стало еще тяжелее. Я решил оставить на месте все регалии поэтичности поэтического произведения, только вместо трудноподыскиваемой рифмы я предложил в свое время людям простой повтор слова, что создает впечатление рифмы и состоявшегося стиха[…] я предложил, в случае невлезания слова в строку, — либо выкидывать лишние слоги, либо дописывать недостающие, причем узнаваемость слова при выпадении из него до 2-х слогов (при общем объеме 4 слога) не теряется; точно так же и при увеличении количества слогов почти на 100 %. В данном сборнике я сделал следующий решительный шаг в направлении дальнейшей и неуклонной демократизации стихосложения, предлагая вниманию заинтересованного читателя нехитрый прием замещения труднонаходимого слова отточием с сохранением лишь окончания, определяющего часть речи, хотя можно и без этого. Можно и вообще без всего: в одном из предыдущих своих сборников я предлагал замену целого неудавшегося стихотворения, на которое было потрачено время и простое опущение которого было бы несправедливым, соответствующим количеством рядов строчек, что является актом даже более чистой поэзии, чем самое удачное стихотворение, в котором материя воплощения обязательно выпустит, хотя и микроскопические, но все же ослиные уши, ослиные уши правил стихосложения. […]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу