— Это что? — спросила девочка про рисунок на столе. На рисунке толстая зайчиха в пенсне катила детскую коляску: Николай Максимович молча, улыбаясь неудержимо, протянул ей рисунок.
— Скажи «спасибо», Маруся, — сказал Корольков. Все в отделе заулыбались, а Николай Максимович впервые почувствовал себя на службе совсем живым; он удивлялся этому и кивал девочке. Она постояла совсем рядом, а потом отошла, и опять стало холодно и кисло запахло табачным дымом, отсыревшей штукатуркой. «У меня нет девочки такой, а у него есть почему-то…» — бормочет он, обводя чернильное пятно, въевшееся в суконку стола.
— Идите чай пить! — зовет Василий Михайлович Корольков из своего кабинетика из-за перегородки. Густой обжигающий чай в эмалированной кружке, о которую греются ладони. Пар размягчает веки, все лицо, от привкуса сахара губы благодарно морщатся. Николай Максимович дует в кружку, сейчас он не боится, а ведь всегда боялся, даже не женился, вот и детей нет, дочки, как Марусенька, никого. Сейчас не надо бояться, а недавно — зима стояла над миром, огромная, матовая, люди, как куколки промерзшие, валялись на дорогах, он их видал, никто из них не спасся, не ожил… Да, сейчас — пей чай, грейся, ты жив, ты — здесь и будешь жить… и это — нормально. Но тогда, в 44-м он скрытно стыдился, что побывал там такое малое время, и никому не объяснишь, почему он здесь в комнате, а не в окопе, разве можно объяснить такое постыдное дело? Засмеют и не поверят. Кому расскажешь, что его ранило, едва прибыли в эшелоне, осколком авиабомбы в копчик. Да! Ведь не будешь снимать штаны и показывать, не будешь объяснять, что смещен позвонок копчика. (Название-то какое!) А как ранило, завалило землей, он не помнил. Очнулся в медсанбате, и сестра сказала: «Ну и везучий ты — по обмотке заметили ребята. А то б и не раскопали! Прошли мимо. Засыпало тебя всего. А обмотка — сверху — размоталась и торчит!» Он только помнил — как встал их эшелон с боеприпасами, как он и другие из роты охраны прыгали с тормозных площадок в сугробы, под насыпь. Обмотка размоталась — это он точно помнил. Некогда было ее, проклятую, заматывать. Он только пригнулся от стального вопля из серенького неба, и все. Это было 12 января 1944 года.
Итак, он стал белобилетником и давно уже сидит в редакции и пишет. Когда очень больно, примащивается и сидит на одной ягодице. Но он хоть немного, да испытал всеобщей этой погибели. А почему Корольков не был на фронте? Броня? Покрыватели? Возраст? Но для комсостава не так уж и стар…»
«Прошло полгода», — написано на промокашке. Бессмысленные слова — полгода, год, месяц. Их можно только писать. Ничего не прошло. Он звонит на полутемной площадке в квартиру 4. Он перекладывает портфель, в котором гранки для Королькова, из руки в руку. Шаги и «здравствуйте, принесли?» И столовая, где тепло, Маруся в синем бумазейном платье стоит голыми коленками на стуле и рисует под абажуром. Длинный чулок сполз, отстегнулась подвязка, а стриженная машинкой голова смешно блестит ежиком, сквозь волосы просвечивает кожа.
— Скарлатину перенесла, — говорит сзади Корольков. — Чаю попьете? Шубу-то снимите. — И потом негромко, странно: — Эх, дети-детишки!
Николай Максимович глотает какие-то слова, мнет-шапку. Над верхней губой у Маруси прилипла хлебная крошка, она слизывает ее, улыбается ему, хитро щурится:
— А вы еще нарисовали мне? Зайцев?
…Николай Максимович сидит на деревенской терраске, уставившись в пустоту, он не чует своих коленей, лица, сцепленных пальцев, и незаметно редакционная комнатенка рассыпается, как гнилая клетчатка, исчезают промокашка с кляксой, календарь на перегородке, окурок в пепельнице, и стылый московский мороз вытесняется азиатским зноем пустыни. Этот равнодушный зной давит под затылок угрюмой духотой, в корнях мозга шевелятся лохматые полумысли, в нем (или не в нем? в двойнике?) на дне дышащего провала, там, в незнакомой долине, где меловые холмы дрожат в мареве полдня, началось это. Среди лезвий выжженной добела травы, среди слюдяных блесток гранита, где проскользнула ящерка. У нее был умный роговой глазок. На что он смотрел? Пустая улица расколота зноем, все плоско, без теней, и трупы, как скорлупки жучков, и на них наплевать: один труп или тысячи, если ты прав?
«Вот, может быть, когда все это началось…». Николай Максимович все сидит на приступке терраски, глаза его сдваиваются на песчинке, втоптанной каблуком в землю, глаза размываются, а зрачки заостряются, как дырочки в небытие: всей кожей ощущает он сейчас, что и эта смоленская деревенька Столешнево стоит не на огородах и травах, а на жестоких песках Мезозойской эры. А пески помнят все.
Читать дальше
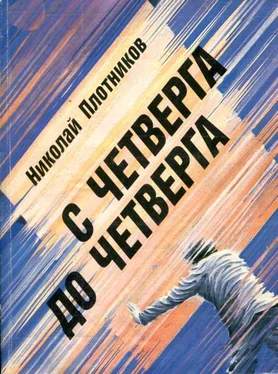
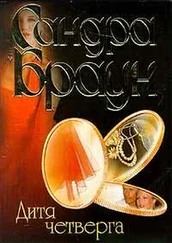



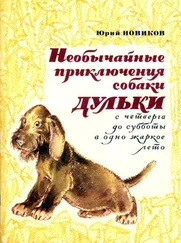



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


