Он стоял в тени и смотрел на спину брата своего, на его гибкие руки, взрыхляющие мотыгой свежую борозду. Даже это делал Авель хорошо, и лицо его не возмущалось, а было как у ребенка, которого учит мать, и в уголках губ — радость скрытая, точно чуют его ноздри сырость будущего зерна, которое принесет во сто крат.
Каин стоял в тени, и за спиной его была вся эта их сторона Куш, орошаемая рекой из Эдема. На четыре реки делилась река, собирая в долинах туманы и росу дождевую. Там цвели сады с гранатовыми яблоками, и ветер осыпал лепестки их, веял шафраном и корицей, и прохладой источников — живых вод в корнях кедров ливанских.
А впереди уже наступал зной: оттуда из-за гор Фаеги, обращенных лицом к пустыне. Над скалами уже сгущалась жаркая мгла, точно пыль тончайшая, в которой нельзя вздохнуть.
Камень тяготил руку Каина, томил суставы ею, и, размахнувшись, сделал он шаг и бросил камень в голову брата. Дрогнуло марево отблеском дальним, точно горы беззвучно содрогнулись, а тело брата споткнулось и легло на пашню, вздохнуло только раз и отяжелело навсегда. Так перестал он жить. Кто видел это?
Тело Авеля было смугло и прекрасно, песок пустыни оседал на его круглые плечи, а кровь была, как черные гроздья, и земля отверзала все поры свои, чтобы принять кровь человеческую. Как же буду теперь я возделывать землю эту? Не даст она теперь мне силы своей, изгонит меня вон. Вот я стою, и лицо мое повернуто к смерти, зарастет виноградник мой терновником, колючим кустарником, гиены и шакалы будут выть там, где трудился я от рождения…
Каменным зноем дрожала мгла над меловыми холмами, мгла сгущалась над миром, и наливала сквозь темя свою тяжесть, и пятки ног врастали в песок, а язык разбухал во рту, как гнилое дерево. Во мгле зноя колебались сухие скалы, раскрывались, как пасти, и будто рушились так стены городов незнакомых, а трупы людей были, как помет на улицах… Было так душно, что пот стекал по щекам и крыльям носа, и он ловил языком соленые капли и не мог понять, откуда удушье это: ведь он ждал справедливости.
Так стоял он над братом, опустив бесполезные руки, а над хребтами гор назревали, придвигались нечеловеческие слова, которые уже слышал он внутри ушей своих, точно шорох песчинок нависающего самума: ГДЕ АВЕЛЬ, БРАТ ТВОЙ?
* * *
С расстроенным отсутствующим лицом Николай Максимович медленно брел обратно. Но в дом он не вошел, а сел на сырую приступку террасы. Он снял очки, протер их пальцем и забыл надеть.
Сад нагревался, обсыхал после дождя — на мягкой земле посверкивали песчинки, вдавленные каблуком; бестолково квохтала курица на огороде. Но вся эта отпотевающая земля, корешки, семена, вялая картофельная ботва, паутинка на сучке — все это было уже за толстенной мутноватой стеной из броневого оргстекла…
Кончики пальцев деревенеют от промороженной бумаги в скоросшивателе, окно замерзло толстыми пальмовыми ветками, болит горло, в редакционной комнатушке пусто от застарелого мороза. Зима. Пятьдесят первого года. «А сейчас какой?» — пытается он вспомнить как бы со стороны. «Вон курица, грядки, но это же видимость, что я сижу в садике деревенском, это не садик, это не я…» Фанерная перегородка и календарь на ней мелко трясутся — по Каретному проходят тяжелые машины, на задвижке окна пушится иней, матовая белизна стоит в легкой от голода голове, а вкус черной корочки под языком сейчас важнее недочитанного Цвейга, и почему-то это хорошо. «Неужели нет времени никакого? Нигде?» — со страхом спрашивает его тело, которое стало будто сухая картофелина, сморщенно, ничтожно, и нет совсем воздуха — только пустота, и где-то за броневым стеклом совсем оглохшие немые куры и яблоньки, а здесь — календарь дрожит на фанерной перегородке, а потом на миг: зарево, надолбы, беспощадное лицо и буквы: «Смерть немецким оккупантам!»
Дверь толкнули, она впустила темноту коридора, из темноты в редакцию вошел полноватый, коротковатый Корольков — новый зав. отделом. (Вместо Бабаева-пьяницы, которого в прошлую среду вызвали на партком.) Корольков Василий Михайлович. Он стоял и смотрел, а рядом, держась за его руку, стояла и смотрела девочка, Марусенька, его дочка. Из-под теплого платка торчал курносый нос и шарили любопытные серые глазищи.
— Здравствуйте, товарищи! — спокойно сказал Корольков и, обходя столы, пожал всем руку. Был он чем-то похож на пожилого завкадрами. А Маруся вертела головой, спешила все узнать, даже кончик языка высунула от старательности. Николай Максимович с непонятной болью где-то под ложечкой смотрел на ее веснушчатую переносицу, на клок белобрысый над бровками, и крутил пуговицу на пиджаке.
Читать дальше
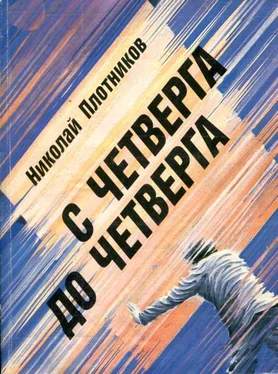
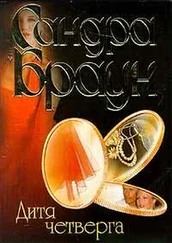



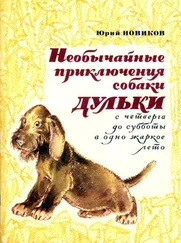



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


