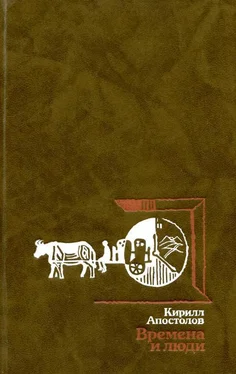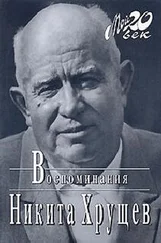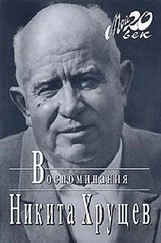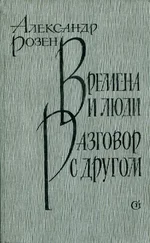Он не помнил, сколько спал, но по тому, как почувствовал вдруг аромат молодого горного сена и легкое его щекотание у ворота, понял, что Елена пришла. Следующий момент память сохранила так, будто это было вчера. Разбудила Тодора окончательно ее нежность и частое взволнованное дыхание. Душистые травы сеновала превратились в цветущий луг, а короткая летняя ночь — в сон-бессонницу…
Позже Тодор говорил себе, что все произошло случайно, сваливал на выпитую ракию. Но вот прошло больше двух месяцев, а он вспоминает теплую и мягкую плоть и то болезненное беспокойство, которое охватило его вначале. Перевалило за полночь, прежде чем он мог сказать ей что-нибудь вразумительное. Расслабленно отдыхая в его объятиях, Елена молчала. Огонек сигареты (за всю ночь он позволил себе выкурить одну-единственную) выхватывал из слоистого мрака то светлые округлости ее груди и таинственную тень между ними, то белизну ее бедра. Пальцы Елены нежно перебирали волосы на его затылке…
Она убежала на заре. Дергая и понукая Клеопатру (в спешке Тодор потерял тропинку), он упрямо твердил себе, что все произошло случайно. Но сегодня, уже обдумав, знал: нет, не случайно. Он искал подобной взаимности, искал с тайной надеждой вернуть равновесие, поправить как-нибудь искривленный свой путь… Не получилось. Нет, интрижка с чужой женой сделала его еще более одиноким. Становилось ясно, что он не может больше жить так, как жил все эти последние месяцы.
Какой смысл был в этой интрижке? Так, неосознанное исступление. По словам Милены, он вообще был склонен испытывать судьбу. Вызов судьбе, направленный против себя же, как, впрочем, наверное, и бегство его из Хаскова… А может быть, и все вообще, что делал он до сегодняшнего дня.
Мотовоз уходит вниз, под землю. Когда вагончики выскакивают на свет, Сивриев видит тесное, теплое и веселое ущелье: несмотря на то, что на вершинах уже явные признаки зимы, тут, внизу, еще царствует осень — мягкая коричневая земля, пестрая листва деревьев.
Хорошо, если его не забыли. Он регулярно посылал домой половину зарплаты, а зарплата у него немаленькая. Но ведь даже больших денег может оказаться слишком мало для того, чтобы не забылось лицо человека… Уходя, он не пожелал ее выслушать, хотя Милена на этом настаивала. Если бы вернуть тот день, он бы первым делом выслушал ее. Почтовая открытка, присланная из Банско, лежала у Тодора в кармане.
«Здесь я со школьниками, Андрейку взяла с собой. Сегодня утром мы были на вершине Вихрен. Мне объяснили, что Югне — прямо под нами, и я сказала об этом Андрейке… Деньги от тебя мы получаем регулярно…»
Да, хоть бы не было поздно, хоть бы успеть, думал он, охваченный тревогой и раскаянием.
По пути в Хасково мотовоз проезжает мимо родного его села. Сейчас там нет никого из близких: сестра замужем и живет в городе, отец умер пять лет назад, матери (именно на нее Тодор так похож) тоже нет на свете — умерла вскоре во время жатвы. Весь род матери был ненасытным на работу… Деда убило молнией, когда он прибирал сено на гумне, а прадед был «наказан господом» — не в постели умер, а в хлеву, куда больным пришел почистить и накормить скотину.
Квартира в Хаскове встретила его тишиной и знакомым уютом, который в каждом доме выглядит по-своему. В холле Сивриев некоторое время ждет, точно гость. Наконец дверь хлопает, и оба — сначала Андрейка, а за ним и Милена — останавливаются в изумлении. Милена первая приходит в себя и, переступив порог, делает к Сивриеву шаг. Потом, точно спохватившись, останавливается и вдруг подталкивает вперед сына.
— Правда, вырос? Я отдала его в детсад, не могла иначе…
Тодор нерешительно протягивает руку, но, едва прикоснувшись к шелковистым волосам ребенка, тут же отдергивает ее. Отвык…
Он не остался ночевать, хотя Милена ему предлагала:
— Переночуешь — и завтра с утренним мотовозом уедешь.
Нет, оказывается, надобности вспоминать о случившемся год назад. Жена дает ему посмотреть сберкнижку Андрея — целы все деньги, которые он переводил ей из Югне. Это вроде бы объясняет все, хотя не объясняет ничего. Что ж, пусть так, могло быть и хуже.
Вдвоем они проводили Тодора на вокзал.
По узкой ленте асфальта машина спускается вниз серпантинами, и вместо целостного представления об осени взгляд выхватывает отдельные картины: облепивший скалы кизил, окрашенный в ярко-красное; золотые тополиные пирамиды у реки; соломенно-желтый загар граба; мягкие, цвета резеды, оттенки ясеня; огненные взрывы кленов; суровая строгость дуба, не тронутого ни единой яркой краской (его непреклонность сломится позже, когда измороси вдруг превратятся в иней).
Читать дальше