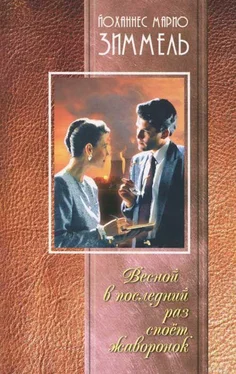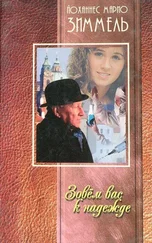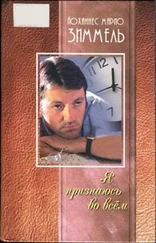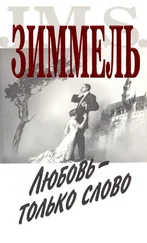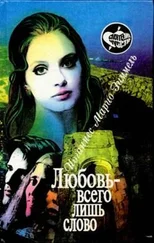Несколько раз за эти годы я видел один и тот же сон. Когда я был репортером, меня отправили в Японию. Там я побывал в городе Нара в одном храме и видел кото-цитру. И во сне я снова возвращался туда и видел кото-цитру и загадочные иероглифы, и один жрец перевел мне эту надпись.
Она гласила:
В море жизни, в море смерти
Устаешь всегда.
Душа ищет гору,
О которую разбиваются
И умолкают все волны.
Да, думал я, когда просыпался, я нашел ее, свою гору. И Гордон тоже нашел ее.
— Мы богаты, — сказал он однажды за виски, — неслыханно богаты, Филипп, ты знаешь это?
— Сиди уж, — ответил я. — Мы не богаты, было бы прекрасно, если бы мы таковыми были.
— Мы богаты, — повторил он упрямо. — Здесь, в Шато-де-Оекс, мы защищены. А любая защита от реальной жизни есть богатство.
— Вот оно что, — сказал я. — Тогда давай выпьем еще по одной.
Когда у бывшего летчика-бомбардировщика в сезон бывало слишком много работы, я помогал ему. Я ездил на раздолбанном «лендровере» с прицепом и останавливался там, где Гордон должен был приземлиться после полета на воздушном шаре, чтобы увезти шар обратно.
7 августа 1988 года, в воскресенье, позвонил месье Ольтрамар и сообщил, что господин и дама из Рима хотели бы полетать на шаре во второй половине дня в понедельник. Помощник Гордона болел, и на «лендровере» снова поехал я. У нас были предусмотрены все случаи, мы обговаривали лишь мелочи, я наблюдал за сине-желто-красным шаром Гордона в голубом небе и трясся на машине по дорогам и цветущим полям. Это было лето, разгар сезона, и навстречу мне попадались веселые и беззаботные люди.
Гордон приземлился на большой поляне. Я постарался подъехать как можно ближе, и тут Гордон сделал то, что привело меня в восторг. Чтобы оказаться рядом со мной, он несколько раз выпустил внутрь шара короткие порции горящего пропана. Шар, грациозно подскакивая над пашней, приблизился к «Лендроверу», мы отсоединили баллон от корзины, выпустили из него воздух, сложили и погрузили на прицеп. Потом я отвез супружескую пару из Италии, взволнованно молчавшую (как многие возвращавшиеся из полета), в гостиницу, и мы с Гордоном отправились домой. По дороге заглянули к месье Ольтрамару за нашими газетами, которые он получал для нас на почте. Писем никогда не было, и казалось, что в целом свете не осталось никого, кто еще помнил о Гордоне или обо мне, а нам только того и надо было. Не доезжая до Ле Фергерона, мы остановились в тени старого дерева, чтобы пролистать свежую прессу. Гордон курил трубку.
Он читал намного внимательнее меня, он все делал основательно, именно он и заметил в «Зюддойче Цайтунг» коротенькое, в один столбец, сообщение о кончине шестого августа, в субботу, в гамбургской клинике профессора Герхарда Ганца, руководителя Физического общества Любека.
— Не твой ли этот Ганц? — спросил Гордон. Я ответил, что, может быть, и он, поскольку практически ничего не знал о том, чем занимался Герхард после войны и над чем работал в Любеке.
— Это он во время войны три километра тащил тебя на себе?
— Да.
Я рассказывал Гордону, как Герхард спас мне жизнь.
— Здесь написано, что его похоронят на Силте во исполнение его желания, — сказал Гордон. — Ты должен лететь туда.
Эта мысль не вызвала у меня энтузиазма, я всегда чувствовал себя совершенно больным, если приходилось покидать Шато-де-Оекс, однако я чувствовал себя виноватым за то, что много лет не поддерживал с Герхардом никаких отношений, а теперь он умер. И я приказал себе: «Я должен туда лететь!»
— Из Женевы на Гамбург есть один рейс, — сообщил Гордон. — Ты прилетишь на остров на одном из этих маленьких самолетов Твин Оттер, это канадские самолеты.
Он всегда интересовался полетами и имел при себе кучу всевозможных расписаний. Каждый должен что-то иметь. У меня был «Мыслящий».
Четыре дня спустя, очень рано, я вылетел из женевского аэропорта Куитрин и вернулся в тот мир, от которого прятался так долго. Так я познакомился с доктором Валери Рот и доктором Маркусом Марвином, сотрудниками моего друга Герхарда Ганца, и с множеством других людей, одиноких и бессильных что-либо сделать, рискующих своей жизнью в попытках воспрепятствовать бездушному уничтожению нашей планеты. И при этом происходило ужасное и прекрасное, было и горькое, и сладкое, — о да, и сладкое тоже.
Один из великих писателей, которого я люблю и перед которым преклоняюсь, — Сомерсет Моэм. В своих великолепных новеллах он выступает летописцем, стоящим вне событий. Он никогда не вмешивается в их ход, не позволяет себе выносить приговор, никогда не восхищается людьми и не презирает их, не пытается понять, что они делают, — всего лишь повествует об этом, зачастую даже не являясь свидетелем этих событий. Всю жизнь я мечтал хоть раз написать так, как он, — одновременно понимая, что мне это никогда не удастся.
Читать дальше