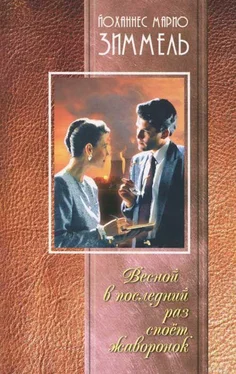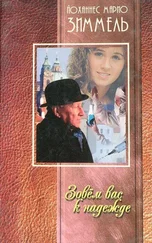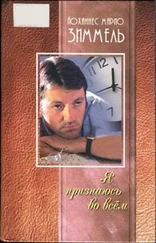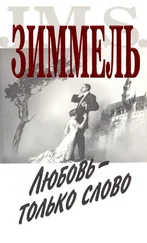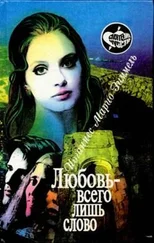Женщина мечтательно сказала мужу:
— Папочка, посмотри, совсем как наша Сюзи.
— Кто это — Сюзи? — поинтересовался кто-то.
— Наша младшенькая.
Поезд был переполнен. Не нашлось ни одного свободного места, и Гиллес стоял в проходе. С дамбы он еще раз взглянул на Кайтум и дом Герхарда Ганца над мелководьем. Было душно. Гиллес открыл окно, ветер ударил ему в лицо, и он снова подумал о Линде.
В Алтоне простояли больше часа. На платформе сидели несколько пьяных и философствовали.
— Дружище, — говорил один, — в этом паршивом мире испокон веков больше убивают, чем занимаются сексом!
Подошел ночной поезд на Цюрих с четырьмя спальными вагонами. Гиллесу досталось купе. Он лег, хотел почитать газету, но тотчас же уснул. Ему снились чайки.
Меня зовут Филипп Гиллес.
Мне шестьдесят три года.
Если вы поедете по автобану Цюрих-Женева и, не доезжая Булле, небольшого городка рядом с Лак-де-ла-Грере, съедете с него на мощеную дорогу, ведущую на юг, мимо деревень Груйерес, Энней, Вилласзоусмонт, Альбеле и Монтовон, то окажетесь в горной долине среди массы поселков и хуторов. Это Шато-де-Оекс, Рейс-де-Энтхарт, из-за которого в Средние века бушевали распри между графами Грейерца и Берна, деревушки Розинир, Лес-Моулинс, Эль-Эриваз, Ружемон и одноименная с центром долины Шато-де-Оекс.
Эта деревушка сгорела дотла в 1800 году и была отстроена заново. В последние годы у подножия круто поднимающегося вверх поросшего лесом косогора Альмену выросли современные двухквартирные коттеджи. На краю леса, чуть выше красивой гостиницы «Бон Аккуэль», перестроенного сельского дома, сохранилась дюжина очень старых шале. В одном из них под названием «Ле Фергерон», бывшей кузнице, я живу уже восемь лет.
Может быть, вам знакомо мое имя. С 1946 по 1978 год я издал 18 книг, которые стали бестселлерами и были переведены на много языков. За последние десять лет я не написал ни строчки. В 1978 году в берлинской больнице Мартина Лютера (тогда у нас был дом в Грюневальде) умерла моя жена Линда. Режиссер Билли Вильдер, с которым она дружила, однажды рассказывал мне, что называл Линду «моя тишина», потому что она редко говорила. Однажды во время дискуссии кто-то раздраженно потребовал от Линды высказать свое мнение. И она ответила:
— Я думаю, что человек должен пройти по земле, едва касаясь, и оставить после себя как можно меньше следов.
Эти слова, я думаю, могли бы стать эпиграфом к книге, которую я пишу.
В восемнадцать лет я перестал верить в Бога — моя мать рассказала мне, что в Первую мировую войну священники по обе стороны фронта благословляли пушки, чтобы те истребили как можно больше врагов. Линда не спешила порывать с церковью, да так и не сделала этого. Смолоду она страдала редким заболеванием крови и находилась под постоянным медицинским наблюдением.
— Ничего нельзя знать заранее, — говорила она. — Вот у меня гемолитическая аномалия. А вдруг Бог придирчив, и если я перестану веровать, он обидится и пошлет мне смерть, — а я хочу быть с тобой как можно дольше. Нет, нет, это слишком большой риск. Кроме того, католические церкви так красивы, Библия — чудесная книга, — правда, несколько порнографичная в Ветхом завете, но я ничего не имею против, — и в ней масса великолепных мыслей.
Любимой фразой Линды была «Блаженны нищие духом». Она всегда ее вдохновляла:
— Да, да, бедные и глупые всегда счастливы, и им можно только позавидовать.
Она была очень доверчива и говорила мне, словно открывала невероятную тайну: «Если Бог хочет наказать человека, он дает ему разум», подразумевая фразу из Екклезиаста «Во многая мудрости многия печали».
Однажды, еще в бытность свою сценаристом, Линда пришла на съемочную площадку. Снимался эпизод с фоторепортером. На шее у него болтался фотоаппарат.
— В нем есть пленка? — спросила Линда режиссера.
— Нет. Но кто это поймет?
— Зрители поймут, — ответила Линда.
Этим она сказала об искусстве все.
Я постоянно читал ей вслух написанное. И никогда у меня не было критика лучше и умнее. Поскольку я склонен преувеличивать, обычно случалось так: Линда задумчиво качала головой и дружески говорила, что это слишком мелодраматично или затянуто, и, конечно, следует доработать. Потом происходило следующее, — как это было замечательно! — всегда одно и то же. Я не спешил дорабатывать.
— Это же три дня работы! А знаешь ли ты, что это за мучение — писать? Болят плечи, голова и глаза, все болит, и спать нельзя, и работа высасывает все соки, опустошает, и вообще, раз и навсегда: я ничего не вычеркиваю и не переписываю!
Читать дальше