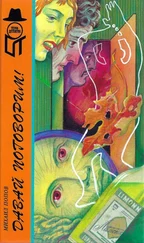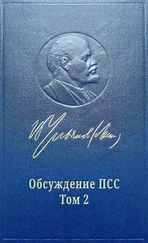— А Витольд?
— Бегал, рассказывали, с пистолем — наоборот, отпугивал.
Ну да, ну да, эта песня мне была знакома. Народ темен, он веками терпел, и вообще времена были какие, повсюду полыхало, да еще как. Да и сам я, когда рассмотреть, не выброшен же, не сгнил в беспризорниках, вскормлен. Она признала меня, эта власть народная, оторвала от своего мелкого куска необходимые крохи. Но это ладно, меня вот еще что… не было ли здесь того мотива, что местные налетели на графьев именно как на чужаков.
Чувствуя какое-то внезапное смущение, я с трудом выстроил ему такой вопрос, он у меня не выходил, не хватало материала внутри. Турчаниновы, как ни крути, пришлые, назначенные баре… хотя под Саратовом жгли их как местных, природных. Я запомнил рассказ отца. Но все равно — Порхневичи выступали именно от имени белорусских болот против иноземных господ.
Иона длинно, хрипло прокашлялся. Он меня понял, и тут у него было что сказать.
— Я ж тут давно, мальчишкой еще, считай, пригнали. Как же их тут всех, сопливых, тугих разумом… как я их… Ненавидел, что уж говорить. А Порхневичей вдвойне. Только со временем кое-что рассмотрел. Мужику местному — всякий чужой. Свой барин иль приезжий — всякий кровь сосет. Ромуальд Порхневич, Витольд Порхневич… Они одним боком вроде и за здешнего мужика, да только если присмотреться — все больше за себя. Красные победят теперь, и я рад, но я уже вижу, что будет: вырастет такой Шукеть в начальники и будет от того же мужика кровь сосать, хоть и сам от мужицкого корня. Будут баре, только теперь в кумаче.
Это он меня куда-то уводит, в какой-то классовый подход. зачем мне Шукеть?! Самое противное, что именно этот скрипучий хрен по общему раскладу мне должен быть ближе всего, вот такая мне радость. Я через голодную юнговскую пайку, через казарму выхожу и сам такой себе есть, хоть и военный преступник, а Шукеть через низовую правду к коммунизму выходит. Да только тошно мне с ним целоваться. Но вместе с тем мы с ним заодно.
В общем, сижу я тут как на пепелище, среди очень скудно дымящих головешек. Каким-то жалким оказался паливший меня изнутри вопрос.
Никто мне не брат, и никто мне во враги не годится. Дедушка этот церковный как-то незаметно меня обвел, что ли? Дико я смотрюсь тут со своим графством и родовой обидой. Вот «шмайссер» на коленях — это правда, это настоящее.
Иона опять начал издавать какие-то звуки. Да он, старый черт, смеется вроде.
— А кто тебе про Мирона безногого плел?
— В отряде.
— Глупости. Антон Сахонь приехал в Порхневичи, когда тут еще Витольда не было, он на пана горбатился. Оксана была уже тяжелая. Мирон быстро родился. Думаю, Сахонь у кого-то ее отхватил — может, убил, может… Мирон ее сын, а не ихний.
Надо было вставать и уходить. На душе у меня было тошно. Чтобы уж как-то закончить разговор, я напомнил ему: раз про Мирона сказал, так уж и про Янину давай.
— А там все просто, проще не бывает. Скиндер-младший ее для себя уготовил, а тут дружки немецкие давай, говорят, — я так думаю и уверен — селянку совместно за нашу общую дружбу и оприходуем. Скиндер против, конечно, а они пьяные. дальше понятно? И его не пожалели, и ее не пожалели. Фашист, да еще пьяный…
Я встал.
Старик опять прокашлялся с хрипами, как будто внутри крутилось несколько мельниц:
— А ты что ж про главное не спросишь?
Главное?!
Я не сел, но в ногах стало слабо.
— Какое главное?
— А про мать свою, Елизавету Андреевну.
Все-таки пришлось сесть.
— Жива она. Она и тогда в погроме выжила, и потом жила себе. Сначала здесь, у меня, я за ней смотрел, чтобы ничего не сталось, а потом отпустил во Дворец. Там во флигельке, где фельдшер раньше жил, — ты хорошо знаешь расположение?
Данута Николаевна жила и не жила: после смерти сына впала в состояние частичной летаргии. Она вроде бы ела, вроде бы понимала, когда к ней обращаются, ходила на работу, но у всякого, кто с ней разговаривал, оставалось ощущение, что она не полностью участвует в разговоре, значительной частью своего существа пребывает где-то не здесь. Николай Адамович вел себя похоже, из дому выходил мало, листал старые бумаги, но ничего, ни буквы не вписывал в них. Жизнь кончилась, высказываться о ней не имело смысла.
Жохова пыталась их как-то расшевелить. Заставляла поесть горяченького, — Данута Николаевна вообще ничего не готовила, — поддерживала огонь в ее буржуйке зимой, но эти попытки не выводили библиотекаршу из ее состояния. Она успокоила соседку, что рук на себя не наложит, но успокаивала таким тоном, что могло показаться, что только о том и думает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу