Похоже, собеседники окончательно взяли за негласное правило выражать одобрение не словами, а молчаливым раздумьем об услышанном.
Наконец Кафка сказал:
— Опять вы шутите со временем. Сколько я помню, Глюк умер в 1789 году, а выходит, что вы с ним встречались двадцатью годами позже.
— Ну и что из того? — возразил Гофман с горячностью. — Писатель имеет право на такие допущения. Да и не только писатель. Знакомы вам гравюры Калло?
Кафка ничего о них не знал, зато Гоголь неоднократно видел в Париже в квартирах друзей. Гофман продолжал:
— Ужасы Тридцатилетней войны, нищету и голод Калло умел перевоплощать в удивительные рисунки, захватывающие, страшные, но и нежные, как дыхание. Многое в этих рисунках очень близко моему ощущению жизни, я даже выпустил книгу рассказов — среди них, кстати, и «Кавалер Глюк» — под названием «Фантазии в манере Калло».
— И все же никак не могу согласиться с вами в том, что касается времени, — сказал Гоголь. — У меня у самого сколько угодно небылиц: призраки, привидения, нечисть всякая. Но я не могу да и не хочу уклоняться от хода времени. Вот мы говорили о моей повести, о «Шинели». Там горькая правда увенчана в конце фантастическим ночным видением. А в другой истории, она называется «Портрет», все наоборот: там все начинается с невероятных происшествий, а потом разворачивается доподлинная жизнь. В лавке на Невском художник Чертков покупает на последние деньги старый, запылившийся портрет. С картины пронизывающим взглядом смотрит на него старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица. Художник вешает портрет в своей мастерской. Эти страшные, нестерпимые глаза не дают ему покоя, преследуют его. Ночью старик сходит с портрета, а наутро, когда хозяин приводит квартального, чтобы заставить Черткова уплатить квартирные деньги, из портретной рамы выпадает сверток золотых червонцев. Вот и встает перед нашим художником вопрос: либо снять на эти деньги приличную мастерскую и исступленно работать дальше, как требуют того талант и призвание, либо сделаться просто модным живописцем и жить в свое удовольствие. Дальнейшее нетрудно предвидеть: это история жизни художника, который поддается соблазнам и становится всего лишь богатым модным портретистом. Под конец разум его совсем помутился, желчь и безумная злоба проступали на лице его, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он растратил свои богатства, скупая все лучшее, что только производило художество; купивши картину дорогою ценой, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством на нее кидался, рвал, изрезывал в куски…
— Все это, конечно, можно было изобразить и без фантастического начала, — заключил Гоголь. — Но мне хотелось именно из фантастического происшествия вывести картину доподлинной человеческой жизни.
Кафка еле слышно проговорил:
— Если после моей смерти произведения мои по злосчастному стечению обстоятельств уцелеют, люди и не вспомнят, что родился я в империи Габсбургов, а жил и умер в Чехословацкой Республике. Услышат, наверно, лишь отголоски муки, неуверенности, отчаяния, что терзают человека на переломе эпох. Да еще — страх смерти, мой неизбывный страх.
— Близость смерти не помешала мне до последней минуты бороться с моим врагом, с министром внутренних дел, — заметил Гофман. — Кстати, дорогой Гоголь, возвращаясь к разговору о явном и воображаемом: в моем мире не только сны и фантазии многое значат, но и предчувствия, и надежды, и страхи. Ведь иной раз художнику удается провидеть то, что в жизни осуществляется лишь столетие спустя.
На сей раз громко, обращаясь к собеседникам, Кафка сказал:
— Меня упрекнут, что мир мой безысходен. Но если сама жизнь кажется мне безысходной, разве не вправе я показывать ее такой, какой ее вижу?
— Но вы видите не всю жизнь, только клочок жизни! — возразил Гофман взволнованно. — Если для вас нет выхода, это вовсе не значит, что его нет и для остальных! Выход надо искать, надо пробивать брешь в стене! Как узник ищет щелку, чтобы передать записку товарищу. Проблеск обязательно нужен, надо уметь его заметить. Темные полотна — возьмите Рембрандта — обретают выразительность благодаря таким вот еле различимым источникам света, в том и мастерство, чтобы с толком их разместить. Почитайте, что я писал, когда смерть уже осаждала меня со всех сторон, прочтите «Угловое окно», одну из последних моих вещей.
— Я хорошо ее помню, — сказал Кафка, а сам подумал: «Он мужественный, этот Гофман, вот в чем суть. С его-то волшебными сказками, с его фантазиями — и вдруг паралич и полная неподвижность. А он пишет о себе как о постороннем: мол, вот человек смотрит из окна вниз на рыночную площадь, на людскую толчею, на прохожих».
Читать дальше
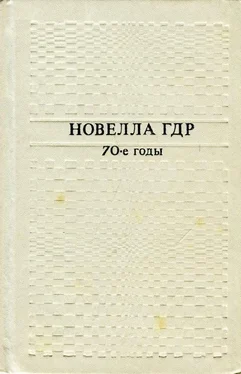





![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)


![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)
![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)

