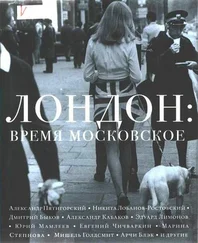— Как это страшно! — воскликнула Инна. — Как мы все напуганы террором…
— Да не все, не все! — вскричал Клоун. — Этому директору до лампочки, моим предкам — до лампочки, вообще всем, кто не прикоснулся к духовности, — до лампочки. Их никто никогда не трогал! Понятно! Били и бьют мыслящих, духовных людей, то есть интеллигенцию. Она всегда помеха. Потому что совестлива и врать не может! — Клоун замолчал, затем сказал: — Алик, пошли пилить вишневый сад!
— А там, правда, вишни? — спросила Инна.
— Вишни, — сказал Парийский.
— А вам уже известно, что ваш вишневый сад продается за долги, на седьмое декабря назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя хорошая, спите себе спокойно, выход есть, — проговорил Клоун, поднимая над головой двуручную пилу.
Волович спросил у Клоуна:
— Разрешите бросить реплику?
— Буду рад, — сказал Клоун.
Волович:
— Извините, какая чепуха!
Инна:
— Вырубить? Простите, вы ничего не понимаете. Если по всей Яузе есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только вишневый сад.
Парийский:
— Замечательного в этом саду только то, что он закрывает собою весь свет в окнах. Вишня не родится. Весной лишь хорошо цветет белым, как невеста в фате. Но я во двор лет двадцать не выходил, да и делать там нечего.
Клоун взял пилу за спину, как опытный пильщик, и согнул ее. Алик оделся, перехватил пилу. Оделся и Клоун. Они ушли.
Через некоторое время послышался достаточно отчетливый, пилящий звук из-за окна.
— Скоро Новый год, нужно покупать елку, — мечтательно произнесла Инна.
Волович погладил ее по волосам.
— Мы пойдем в ту комнату? — спросил Волович у Парийского.
Парийский неопределенно подмигнул и склонил голову. Как хотите, так и понимайте: нужно — идите, не нужно — сидите.
Инна потянулась, встала с коленей Воловича, и направилась через прихожую в «ту» комнату. Волович направился следом.
— Дозволено цензурою, — сказал Поляков, проводив их взглядом, насмешливым и едким.
— Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как лошади бегать, — сказал Парийский, разглядывая розоватую этикетку на бутылке вермута. — Не нужно иметь слишком возвышенной души, чтобы понять, что в этом мире нет вовсе удовлетворения истинного и прочного, что все наши удовольствия только суета, что наши бедствия бесконечны, что, наконец, смерть, ежеминутно нам угрожающая, должна неминуемо в короткое время довести нас до страшной необходимости, или навек исчезнуть, или нам уготовано вечно быть несчастными. Как бы мы ни храбрились, это — конец, который ожидает и самую прекрасную в мире жизнь. Стоит только подумать об этом, и придется сказать, что благо в этой жизни обусловлено надеждой на другую жизнь — вечную… Там, далеко… Через сто лет люди обретут, может быть, эту надежду, а мы… мы живем на разломе духовности, в сокрушительном безверии, в потере координат мудрости, когда невежество одержало единодержавную победу над плюрализмом интеллекта…
— Где твоя гитара? — спросил Поляков, вставая из-за стола.
— Там, — кивнул грустно расфилософствовавшийся Парийский на свою комнату.
Из-за окон неслось: взжи-взжи-взжи…
— Пилят, — вздохнул Парийский, — вопреки драматургии пилят. Нужно рубить, а они пилят мой вишневый сад. Послышался звон струн, Поляков вышел с гитарой.
Ботиночки дырявые,
Один хожу-брожу
И пальцами корявыми
Подошвы шевелю,
Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту…
Голос у Полякова был высокий, тоскливый и чуть-чуть хрипловатый.
Парийский посмотрел в потолок и вновь заговорил:
— Я, умеющий думать, полный идиот, дурак, потому что не знаю, кто меня послал в мир, чтобы узнать мир. Я не знаю, что такое я…
За окнами продолжала звенеть пила. Поляков вполголоса пел:
Ой-ой, ей-ей,
Да по асфальту…
Парийский говорил:
— Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мои мысли, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое эта самая часть моего «я», которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я нахожу себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я брошен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить…
За окнами звенела пила, повизгивала: «знай, знай, знай…»
Поляков хрипловато подпевал:
Читать дальше