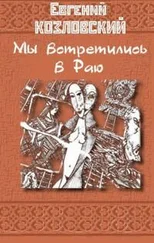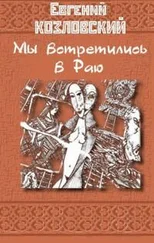— Никто из вас его не понимает. Одна я его понимаю, — на обращенном к Карандашу Викином лице был написан вызов. — Потому что я такая же, как он. Даже Лерка не понимает, хоть она с ним и спала. Вот тебе ее письмо, можешь забрать.
Она протянула Карандашу конверт через стол. Лера потеряла в Нью-Йорке адрес Карандаша и вложила письмо ему в письмо Вике с просьбой передать. Для этого они и встретились в кафе “На рогах”, и разговор их, поплутав по случайным темам, скоро и неизбежно зашел о Короле.
— Для вас для всех он учитель, законодатель моды, король блошинки, самый свободный человек, и только я знаю, что он самый-самый одинокий человек, более одиноким вообще нельзя быть — тогда это совсем уже не человек будет! Я однажды застала его здесь в кафе одного — сидел вон за тем столом и в окно смотрел. Думал, никто на него внимания не обращает или просто забыл обо всех, не знаю. И такая у него на лице тоска была, такое безразличие и скука, как будто он вообще не отсюда и даже не понимает, зачем здесь всё и к чему. Будто заблудился в каких-то своих скитаниях и уже не надеется выбраться… вообще ни на что больше не надеется. И коржик перед ним, надкушенный и забытый. Я хотела подсесть, сказать ему что-нибудь да так и не решилась. И не я одна, никто к нему не приближался. Люди же чувствуют, когда ничем не могут помочь, и стараются не лезть. Так он и сидел один, пока пьяный Дим Димыч к нему не подвалил — этому всё равно, кому свою лапшу на уши вешать. — Вика говорила спокойно, но со скрытой обидой в голосе, проступающей за словами.
Карандаш гадал, слушая, на кого она обращена: то ли на него, то ли на Короля, то ли на всех остальных членов свиты, неспособных его понять. Кажется, в Викином характере был заложен груз постоянной обиды на неустранимую несправедливость мироустройства, который она всегда готова была взвалить на того, кто окажется рядом.
— А ты уверена, что не ошибаешься? Может, ты всё это про Короля выдумала? Что тут такого, сидел и в окно глядел? С кем не бывает?
— Уверена. Я знаю.
— Что ты знаешь?
— Знаю, каково это — жить с такой матерью, как у него. У меня бабушка так же болела. Сначала всё забывала, повторяла одно и то же, терялась, уходила неизвестно куда, мы ее по всему городу искали. Потом стала кричать, что мы ее отравить хотим, драться, сама с собой разговаривать. Мебель крушила, по полу каталась, однажды нагадила в ящик с посудой, все стены говном изгваздала, мы только и делали, что отмывали… — Вика отвернулась в сторону, стиснула губы. Помолчала, успокоилась. — А иногда вдруг болезнь отступала, и она делалась такой, как прежде была, — доброй, хорошей. Улыбалась как ни в чем не бывало, по-немецки говорила — она раньше немецкий в инязе преподавала. Но это всегда недолго, такие просветы, а потом — снова обвинения, что мы ее со свету сживаем, и ругань, и крики. Один раз целый день орала, с утра до вечера, чтобы мы ее домой отпустили. А у нас она не дома, а в тюрьме. И мы с матерью не самые близкие люди, какими всю жизнь были, а неизвестно кто, заклятые враги. И так изо дня в день, из года в год, пять лет подряд. Привыкнуть невозможно, каждый месяц что-нибудь новое выкидывала… Короля, скорее всего, то же самое ждет. — Вика прищурила глаза, глядя мимо Карандаша в отчетливо различимое будущее Короля, для нее уже ставшее прошлым и поэтому открытое ей во всех деталях. — А когда с таким человеком живешь, то весь остальной мир… я не знаю… как новости из какой-нибудь Австралии — так он от тебя далек и безразличен. Какая разница, что у них там в Австралии происходит, когда у тебя смерть под боком, просыпается рядом с тобой и засыпает. Люди говорят о чем-то своем, шутят, а я гляжу на Короля и вижу, что, сколько бы он с нами ни шутил, на самом деле он всеми мыслями с матерью, как я с бабушкой была. Она для него весь мир перечеркивает. Или, может, не окончательно перечеркивает, а лишает того значения, которое мы все ему придаем… Поэтому ему всё и до лампочки и он для вас самый свободный человек. Никто, никто его, кроме меня, не понимает! Он, может, потому и собирает всё на свете и сохраняет, что она у него все теряет и забывает.
Карандаш кивнул:
— Я тоже об этом думал. Но все немного сложнее. Его собирательство движимо ностальгией, а на дне ностальгии всегда образ матери. Тяга к матери придает ей силу, а невозможное возвращение к ней подменяется накоплением вещей из прошлого. Но их всё равно никогда не хватает, чтобы заменить мать. Поэтому Король и собирает всё подряд и все равно ему мало — ностальгия ненасытима.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу