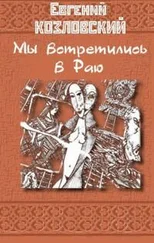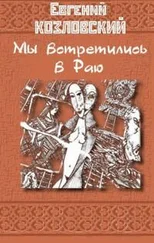— Всё не так просто, — сказал Карандашу Боцман, сидя напротив него в кафе возле барахолки, называвшемся “На рогах” за громадные ветвистые оленьи рога над стойкой, и попивая кофе с коржиком, в который регулярно подливал коньяк из фляжки за пазухой, так что его чашка, сколько бы он ни пил, всегда оставалась полной. — Нет-нет, не так всё просто… Король, он тот еще фрукт. Я к нему давно приглядываюсь…
Для Боцмана всё было непросто. Во всем без исключения он видел второе дно, а под ним еще третье и четвертое. Боцман был конспиролог и, как он сам себя называл, “прикладной мистик” (в отличие от мистиков абстрактных и теоретических, которых он презирал, хотя Карандаш никогда, несмотря на его путаные объяснения, не мог понять, в чем между ними такая уж разница). Его внимание было постоянно приковано к закулисной стороне действительности, где происходило всё самое важное, поэтому большую часть времени он находился как бы в полусне, позволявшем ему туда проникнуть. Неповоротливый и тяжелый, с одутловатым, не очень здорового цвета лицом, Боцман был обычно похож на человека, которого не до конца разбудили, оторвав от увлекательного сна и заставив против воли вникать в поверхностные пустяковые обстоятельства, чье подлинное значение, очевидное ему с первого взгляда, он вынужден объяснять безнадежным профанам вроде Карандаша, заранее зная, что они всё равно не поймут и не поверят. Его всегдашняя сонливость не исключала наблюдательности, напротив, погруженный в себя, он, возможно, даже лучше различал детали окружающего из-под полуприкрытых век и всегда носил с собой в нагрудном кармане зачехленную лупу, чтобы рассматривать те мелкие значки, что можно было обнаружить на продававшейся на барахолке одежде под воротником, лацканами или за отворотами манжет. В фирменных знаках и лейблах, в рисунке тканей или расположении пуговиц, в гербах на запонках и узорах галстуков — повсюду находил Боцман скрытую символику тайных обществ, управляющих ходом истории. От непрерывного внимания к ускользающим от непосвященных деталям его близорукие глаза были всегда скошены на сторону: разговаривая, он обычно смотрел собеседнику в щеку или в плечо и только в моменты окончательного неопровержимого вывода, раз и навсегда опрокидывающего привычную картину мира, втыкался ему в глаза своими мелкими напряженными зрачками. Но вообще-то Боцман был добряк, у которого всегда можно было одолжиться, никогда не отказывающийся выпить за компанию, давно и безнадежно ухаживающий за Викой, не скрывавшей от него, что ее сердце навеки принадлежит Королю.
— Вот скажи мне, откуда он всё это знает? Что, с чем, когда и как носили? Как смазывать кок бриолином, а как наваривать на туфли манную кашу? Что было модно в двадцатые, что в тридцатые, а что в шестидесятые? — Боцман отхлебнул своего коньячного кофе и вопросительно уставился Карандашу в плечо.
— Ну, есть же разные специальные книги… Я у него одну или две видел.
— Э, из книг всего не вычитаешь. Но ведь мало того, он же знает не только, что носили, но и что слушали, танцевали, о чем говорили, как дышали…
— Ты думаешь, дышали тоже по-другому, чем сейчас?
— Уверен! Воздух был другой, поэтому и дышали по-другому. Главное, люди были другие. Они и дышали, и любили, и думали, и чувствовали иначе!
— Ну не знаю…
— А я знаю! И вот что я тебе скажу. — Боцман перевел взгляд с плеча в глаза Карандашу, и тот понял, что настал момент решающего вывода. — Он всё помнит!
— То есть? Ты хочешь сказать… — Карандаш растерянно запнулся.
— Именно. Это я и хочу сказать. — Боцман замолчал, улыбаясь, поджидая, чтобы Карандаш сам произнес то, что уже должен был бы понять.
Но тот только пожал плечами, даже не пытаясь угадать прозрение Боцмана:
— Что он помнит?
— Свои прошлые воплощения! Мы все, ясное дело, живем не в первый раз, но начисто о наших прошлых жизнях забываем, а он нет, он каким-то образом помнит! Может, бессознательно, тут я не уверен, может, как-то чувствует, поэтому никогда здесь, на барахолке, и не ошибается. Все эти старые шмотки, вещички всевозможные, они же ему совсем по-другому, чем нам, знакомы. Они его в свое время возвращают, и он из него на них смотрит. Та преграда, что отделяет прошлые жизни от нынешней, для него проницаема, и это старье — вроде груза, позволяющего ему глубже в самого себя нырнуть. Он дальше в своей памяти может заглянуть, чем самый древний из здешних старожилов. Король, он ведь, по сути, что-то вроде Вечного Жида московских барахолок, пусть он сам об этом, скорее всего, и не догадывается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу