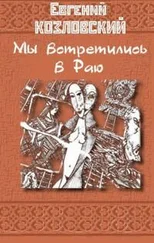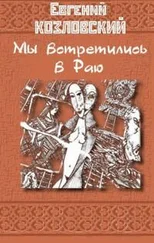Скоро совсем стемнело. Площадка возле кафе освещалась из ларька, а с другой стороны — голой лампочкой, свисавшей на проводе с крыши ближайшего прилавка и раскачивавшейся под порывами ветра, так что ее резкий свет шатался из стороны в сторону как пьяный. Среди плясавших трезвых тоже давно не осталось, разве что маленький восточный поэт, не употреблявший спиртного, самозабвенно погруженный в извилистые движения своих витиеватых танцев. Ким Андреич в очках с одним стеклом энергично двигал из стороны в сторону тазом, и в том же ритме ходила вправо-влево его нижняя челюсть, придавая улыбке сходство с крокодильим оскалом. От интенсивного движения у него лопнул ремень на брюках, но он не покинул площадки, поддерживая их рукой, хотя в азарте то и дело забывал о них, и брюки начинали с него падать, Ким Андреич подхватывал их в последний момент. Мужик в куртке красным мехом наружу разошелся до того, что сорвал ее и стал крутить над головой. Высокая широкоплечая старуха в казачьей папахе залихватски шваркнула ее оземь, но вместе с папахой с нее снялся парик, и она осталась лысой. Это ничуть не смутило старуху, а может, она даже не заметила и продолжала конвульсировать в своем свирепом рок-н-ролле, зато топтавшийся напротив нее старик, любивший пародировать всех, кого видел по телевизору, застыл и, часто моргая, потрясенно смотрел на нее круглыми глазами, совсем, кажется, перестав понимать, где находится. Он так и остался стоять в гуще танцующих, растерянно переминаясь, потирая розовые мерзнущие руки.
Сильно перебравший Гитлер, громоздкий мужик под два метра, наступил на ногу беззубому оперному певцу, тот оттолкнул его, Гитлер едва не упал, размахнулся, чтобы отвесить певцу по уху, но промазал и попал кулаком в лицо любителю золотой краски с золотыми волосами до плеч. Тот, хоть и был невысок и щупл, саданул в ответ Гитлеру своим золотым ботинком в живот. Их кинулись разнимать, и скоро разнимавшие, как обычно бывает с пьяными, сцепились между собой. Дело шло к большой драке, но тут аккордеонист заиграл “Катится, катится голубой вагон”. Под эту мелодию все помирились, Гитлер, извиняясь, взял в охапку золотоволосого, и они даже сплясали вместе в обнимку неуклюжий странный танец, не имеющий названия.
— Let’s go, darling, — сказал Лере Колин, наблюдавший за происходящим из круга зрителей с неподвижной саркастической улыбкой, замерзшей на побелевших губах. — It’s not so interesting [3] — Пойдем, дорогая. Это уже не так интересно (англ.).
.
Но Лера неожиданно воспротивилась:
— А мне interesting ! Мне интересно здесь! Я не хочу отсюда уходить!
Ее плечи, руки и ноги ходили в такт музыке, она явно готова была присоединиться к танцующим, но не решалась. Взглянув на нее сбоку, Карандаш уловил в ее лице, в его сияющих скулах и широко открытых глазах сочувствие ко всему, что рвалось и билось в танце, не замечая того, как нелепо и дико выглядит со стороны, и даже больше, чем сочувствие, — тягу к немедленному соучастию.
Лера была не из тех, кто может удовлетвориться ролью зрителя. Последней каплей стало то, что в самой гуще она вдруг увидела Короля. Как и когда он там оказался, никто из них не заметил. Король отплясывал увлеченно, с совершенно серьезным лицом, в своей собственной причудливой манере, которая в другом месте могла бы показаться вычурной, но здесь, среди продавцов и покупателей блошинки, он выглядел не чуднее прочих. Его руки то и дело разлетались в стороны, кого-нибудь задевая, но ему всё прощали, некоторые даже пробовали ему подражать, а одна тетка из продавщиц с визгом обняла Короля за талию, пытаясь увлечь за собой во что-то вроде кадрили. Тут уж Лера не выдержала, высвободилась из рук Колина и стала проталкиваться к Королю. Он приветственно замахал ей навстречу. Уже из центра круга, закидывая руки над головой, Лера делала знаки Колину и Карандашу, чтобы они к ней присоединялись, но ни тот ни другой так и не решились покинуть ряды зрителей. Аккордеонист заиграл “Отель «Калифорния»”, голая лампа на шнуре качнулась под новым порывом ледяного ветра, и весь пятачок земли перед ларьком со всеми танцующими зашатался, заплясал, заходил ходуном посреди сгрудившейся вокруг него темноты.
Карандаш Королю завидовал. Он не был завистливым от природы и никогда особенно не завидовал тем, кто был успешнее, или тем, кого больше любили женщины, так что вовсе не поголовная влюбленность в Короля девушек его свиты была причиной этой зависти. И не его безошибочность в выборе вещей на барахолке, его легендарная “чуйка”, обеспечившая Королю известность и авторитет, — у Карандаша не было таких претензий, он всякий раз удивлялся неожиданности приобретений Короля и его коллекционерскому везению, но даже не думал с ним в этом сравниться. Дело было в другом. В чем, Карандаш и сам не смог бы с ходу определить. “Самым свободным человеком из всех, кого она видела” назвала Короля Лера. А что это значило? В чем проявлялось? Пожалуй, в том, с какой небрежностью отстранял он от себя все претензии, все больные вопросы, лозунги и навязчивые идеи своего времени. И ведь всякий раз оказывался прав: проходило всего несколько лет, и никого больше не интересовал “социализм с человеческим лицом”, всем делалось глубоко плевать, где “дорога, которая ведет к храму”. Карандаш всегда чувствовал себя крайне неуютно, если не имел своего мнения по вопросу, из-за которого ломали копья все вокруг, и тратил уйму сил и времени, чтобы в нем разобраться, обзавестись мнением, а Король прекрасно без этого обходился, его и так все любили. И любовь, и дружба, и уважение, и интерес самых разных людей доставались ему ни за что, за красивые глаза (которые вовсе не были такими уж красивыми, глаза как глаза, глубоко посаженные, более мелкие и насмешливые, чем у Марины Львовны, но, если приглядеться, похожие на ее), ему ничего не нужно было добиваться, какой-нибудь редкий довоенный портсигар интересовал его, кажется, больше, чем обожание Вики или Леры, готовых простить ему любые насмешки и идти за ним на край света. Королю вообще всё прощали: рассеянность, необязательность, забывчивость, неловкость. Он мог на час опоздать на встречу или не прийти совсем, назначив на то же время встречу в другом месте, — ему всё сходило с рук. Продавцам на барахолке не приходило в голову винить его, если, размахавшись за разговором, он ронял что-нибудь с прилавков. Как будто все договорились между собой, что он ни в чем и никогда не виновен и упреки, предъявляемые другим, к нему отношения не имеют. В этом, видимо, проявлялось признание его особости, и, хотя на рынке было много причудливых людей, только Королю его особость обеспечивала неподсудность. Очевидно, дело было в том, что все завсегдатаи барахолки чувствовали, что они на ней более или менее случайно, тогда как для Короля блошиный рынок — и профессия, и призвание. Они давно убедились, что он знает настоящую цену любой вещи, но многие подозревали, что точно так же он знает и цену тем, кто эти вещи продает. И цена эта невысока. Хотя Король никогда не демонстрировал своего превосходства, во всех его рыночных переговорах всегда присутствовало непроизнесенное “мыто с тобой понимаем”. Понимаем, что грош цена тому, что ты мне тут впариваешь. Да и тебе самому. С ним спорили до хрипа, обзывали жмотом, сквалыгой, жидовской мордой — Король только усмехался в ответ. Ему не нужно было доказывать свою правоту, достаточно было пожатия плеч, пары кивков, мол, говори, говори, неопределенного жеста — “как знаешь”, чтобы продавец захлебнулся своим возмущением, поперхнулся руганью и скинул цену. Правота была неотделима от Короля, она сопровождала каждое его движение, жест, поступок и за пределами рынка, и, если он что-нибудь путал, забывал или терял, что при его расхлябанности случалось часто, ему даже извиняться не приходилось, достаточно было развести руками: что я могу поделать, так уж вышло, — и все с ним соглашались, словно через его забывчивость и небрежность проявляла себя судьба, с которой бесполезно было спорить, оставалось только смириться. И продавцы на рынке, за глаза называвшие Короля придурком, и его свита, звавшая придурка Королем, были едины в одном: с него взятки гладки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу