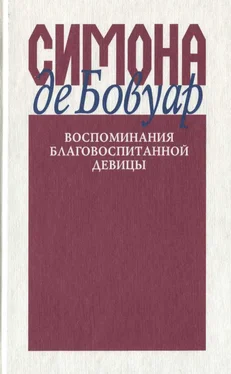Вполне понятно, что он мне не ответил, ведь мы оба желали, чтобы наша дружба «оставалась между нами». И все же я испытывала мучения. Бывая у него на семейных обедах, я весь вечер ловила в его глазах искорку понимания, — ничего. Он дурачился с еще большим сумасбродством, чем обычно. «Ты никак не перестанешь валять дурака!» — говорила, смеясь, его мать. Он выглядел таким беззаботным и, на мой взгляд, таким безразличным, что у меня появилась уверенность, что на этот раз я промахнулась: он с раздражением прочитал трактат, которым я его так неуклюже огорошила. «Тягостный, тягостный вечер, маска слишком непроницаемо скрывала его лицо… Мне хотелось бы выблевать свое сердце», — написала я следующим утром. Я решила затаиться, забыть его. Но неделю спустя моя мать, оповещенная родственниками, сказала мне, что Жак опять провалился на экзамене, выглядит очень расстроенным и было бы любезно с моей стороны его проведать. Мгновенно приготовившись лечить и утешать, я примчалась к Жаку. Вид у него и впрямь был удрученный; он сидел развалившись в кресле, плохо выбритый, с расстегнутым, почти неряшливым воротником, и даже не выдавил из себя улыбки. Он поблагодарил меня за письмо, как мне показалось, без особого чувства. И вновь заговорил о том, что он ничего не стоит, что он ничтожество. Все лето он делал глупости, только все портил и сам себе отвратителен. Я попыталась его приободрить, но не очень верила в то, что говорю. Когда я уходила, он прошептал «спасибо, что пришла» как-то так значительно, что его голос взволновал меня; но от этого я вернулась домой не менее подавленной. На этот раз смятение Жака не виделось мне в благородных тонах; я не знала, что именно он натворил этим летом, но подозревала худшее: игру, алкоголь и то, что я 'гуманно именовала «распутством». Наверное, у него имелись оправдания, но мне не нравилось, что его нужно оправдывать. Я вспоминала свою светлую мечту о любви-восхищении, которую придумала себе в пятнадцать лет, и с грустью сопоставляла ее с моим теперешним чувством к Жаку: нет, я не восхищалась им. Быть может, всякое восхищение — обман, быть может, у каждого в глубине души одно и то же смутное коловращение чувств, и единственно возможная нить между двумя сердцами — сострадание. Эти мысли не давали мне воспрять духом.
Наша следующая встреча еще более меня озадачила. Жак пришел в себя, смеялся, говорил вполне рассудительно, строил разумные планы. «Рано или поздно я женюсь», — бросил он. Эта коротенькая фраза меня убила. Он случайно ее произнес или намеренно? Как ее понимать — как обещание или предостережение? Невыносимо было думать, что кто-нибудь, кроме меня, мог бы стать его женой; вместе с тем я обнаружила, что при мысли о возможном браке с ним меня передернуло. Все лето я эту мысль лелеяла, теперь же, когда я думала о возможном замужестве, которого страстно желали мои родители, мне хотелось бежать. Я уже видела в нем не спасение свое, а погибель. Несколько дней я прожила в состоянии ужаса.
Когда я снова пришла к Жаку, он был с друзьями; он познакомил нас, и они продолжили говорить между собой: о барах и барменах, о денежных затруднениях, о темных интригах; мне нравилось, что мое присутствие не нарушило их беседы; и все же эти разговоры подействовали на меня угнетающе. Жак попросил, чтобы я подождала его, пока он отвезет друзей на машине; нервы у меня были натянуты до предела, и, сидя потерянно на красной софе, я рыдала. К его возвращению я уже успокоилась. Лицо Жака переменилось, в словах вновь появилась заботливая нежность. «Знаешь, это большая редкость — такая дружба, как наша», — сказал он. Вместе со мной он спустился по бульвару Рас-пай, и мы долго стояли перед витриной, в которой была выставлена белая картина Фудзиты {186} 186 Фудзита Леонар (наст, имя Фудзита Цугухару, 1886–1968) — японский художник, живший в Швейцарии, известный своими женскими портретами и изображениями кошек.
. На следующий день он уезжал в Шаговиллен, где должен был провести три недели. Я с облегчением думала о том, что все это время мягкость теперешних сумерек будет моим последним воспоминанием.
Однако волнение в моей душе не улеглось, я уже сама себя не понимала. Временами Жак был для меня всем, в другие минуты — абсолютно ничем. Я с удивлением обнаруживала в себе «порой ненависть к нему». Я спрашивала себя: «Почему только в состоянии ожидания, сожаления, сострадания я испытываю сильные порывы нежности?» Мысль о взаимной любви приводила меня в оцепенение. Если моя потребность в нем утихала, я чувствовала себя обедневшей; но я записала в дневнике: «Мне нужен он, а не видеть его». Вместо того чтобы воодушевлять меня, как в прошлом году, наши разговоры отбирали у меня силы. Я предпочитала думать о нем на расстоянии, чем оказаться с ним лицом к лицу.
Читать дальше