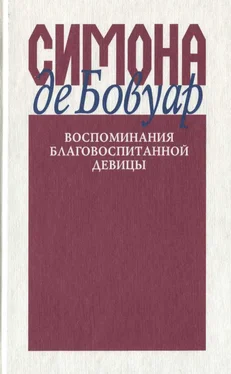Мама проверяла мои уроки, заставляла подробно их пересказывать. Учиться мне нравилось. Священная история казалась мне куда интересней, чем сказки Перро: ведь описанные там чудеса произошли на самом деле. Еще я приходила в восторг от атласа с картами. Меня зачаровывали одиночество островов, бесстрашие мысов, тонкость перешейков. Тот же географический экстаз я испытала, будучи уже взрослой, когда увидела из окна самолета Корсику и Сардинию, затерянные в морской синеве; а потом в Халкисе, залитом настоящим солнцем: то был идеальный образец перешейка, стиснутого морем. Четко очерченные формы, выточенная из мрамора история веков — мир казался мне альбомом с яркими картинками, который я в упоении листаю.
Главной причиной, почему я так любила учиться, была неудовлетворенность будничной жизнью. Я жила в центре Парижа, где все было создано рукой человека, все было скучным и обыкновенным: улицы, дома, фонари, трамваи, предметы. Все было плоским, как понятия, и сводилось к своей функции. Люксембургский сад с его неприступным дворцом и заповедными лужайками был для меня лишь местом для игр. Порой эти нарисованные декорации рвались, и в прорехе зияли пугающие бездны. Тоннели метро уносились в бесконечность, в сокровенные недра земли. На бульваре Монпарнас, там, где ныне стоит ресторан «Куполь», в те времена теснились угольные склады «Жюглар»; оттуда выходили люди с черными лицами и нахлобученными на голову джутовыми мешками; там над сваленными в кучу коксом и антрацитом среди бела дня стояла копоть, точно в горящей печи, и царила тьма, которую Господь отделил когда-то от света. Но я не замечала этого. Мне было уютно в моем благоустроенном мире, я ничему не изумлялась, ибо не ведала, где начинается и где кончается власть человека. Взрослые больше моего дивились самолетам и дирижаблям, бороздившим парижское небо. Что до развлечений, то их в моей жизни было не много. Помню, родители водили меня на Елисейские поля смотреть проезд английских царствующих особ. Кроме того, я несколько раз участвовала в средопостном шествии и один раз видела похороны генерала Галлиени. Крестный ход да аналой — вот и все. В цирк меня почти не водили, в кукольный театр — изредка. Я играла в игрушки, немногочисленные, но мало что из них действительно меня занимало. Мне нравилось смотреть в стереоскоп, так, чтобы две фотографии сливались в трехмерное изображение. Или наблюдать, как в кинетоскопе начинает двигаться лента неподвижных картинок и лошадь пускается в галоп. Мне подарили альбомы, которые надо было быстро листать, отпуская большой палец, и тогда замершая на картинках девочка начинала прыгать, а боксер — махать кулаками. Игра теней, картинки диапроектора — в оптических иллюзиях меня больше всего привлекало то, что они появлялись и исчезали у меня на глазах. В целом скудные радости моего городского существования не шли ни в какое сравнение с богатствами, таящимися в книгах.
Но все менялось, стоило мне покинуть город и перенестись в мир животных и растений, полный неожиданных чудес.
Лето мы проводили в Лимузене, в кругу папиной родни. Мой дед по отцовской линии жил недалеко от Юзерша, в поместье, купленном еще его отцом. Он носил седые бакенбарды, каскетку и орден Почетного легиона в петлице. Весь день напролет он что-нибудь напевал. Дед учил меня, как называются деревья, цветы и птицы. Перед домом, прячущимся в зарослях глициний и бегоний, раскрыв веером хвост, гулял павлин; в вольере красовались пунцовоголовые кардиналы и золотые фазаны. «Английская речка», в которой плавали водяные лилии и красные рыбки, плескалась на искусственных порогах и, разливаясь, огибала островок, соединенный с парком двумя бревенчатыми мостиками. Парк был обнесен белой изгородью. Он был невелик, но чего в нем только не было: кедры, секвойи, пурпурные буки, карликовые японские деревца, плакучие ивы, магнолии, араукарии; хвойные и широколиственные великаны; заросли кустарника и непроходимые чащобы. Я не уставала обследовать эти кущи. В середине каникул мы отправлялись в гости к папиной сестре, вышедшей замуж за местного землевладельца. У них было двое детей. Дядя с тетей приезжали за нами в «большом бреке», запряженном четверкой лошадей. Следовал семейный обед, после которого мы устраивались в повозке на синих кожаных банкетках, пахнувших солнцем и пылью. Дядя сопровождал нас верхом. Имение Грийер находилось в двадцати километрах от Мериньяка. Уродливый дом с башенками и аспидной крышей был окружен парком, больших размеров, чем у деда, но однообразным и запущенным. Тетя Элен относилась ко мне равнодушно. Дядя Морис носил усы, сапоги и хлыст; он то молчал, то кипел гневом; я его немного побаивалась. Зато мне нравилось общество Робера и Мадлен, которые были пятью и тремя годами меня старше. У тетки в поместье, как и у деда, мне позволяли свободно бегать по всем лужайкам и трогать все что угодно. Я ковырялась в земле, месила грязь, обрывала листья и лепестки, полировала конские каштаны, давила каблуком созревшие семенные коробочки. Я познавала то, чему не могли научить меня ни книги, ни авторитет: это были лютики и кашки, сладкие цветки флоксов и сиреневатые вьюнки, бабочки и божьи коровки, лоснящиеся дождевые червяки, роса и натянутая между ветками или парящая в воздухе паутина. Я узнала, что пунцовые ягоды остролиста по цвету ярче, чем лавровишня или рябина; что осень раскрашивает персики золотом, а листья — медью; что солнце всходит и заходит, но никто ни разу не видел, как оно движется. Я ликовала от обилия оттенков и запахов. В зеленых водах затона, в зыбящихся луговых травах, в зарослях колючего папоротника и на лесных полянах — всюду меня поджидали сокровища, которые мне не терпелось отыскать.
Читать дальше