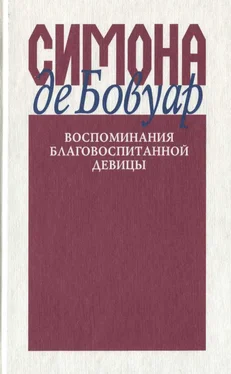Никто не принимал меня такой, какая я есть, никто не любил меня; я сама стану любить себя вместо них, решила я. Прежде я жила с собой в ладу, но мало заботилась о том, чтобы разобраться в себе; отныне я поставила перед собой цель: раздвоиться, посмотреть на себя как бы со стороны; я подглядывала за собой и в дневнике вела с собой беседы. Я проникла в мир, новизна которого ошеломила меня. Я поняла, что отличает тоску от грусти и душевную черствость от душевного спокойствия; я узнала, что такое душевные сомнения, безумства, катастрофы великих отречений и потаенный шепот надежды. Меня охватывал восторг, как в те вечера, когда я наблюдала постоянно меняющееся небо над голубыми холмами; я была одновременно и пейзажем и взглядом; в те минуты я жила только в себе и для себя. Я была счастлива изгнанием, забросившим меня к этим высотам радости; я презирала тех, кому они были неведомы, и удивлялась, как я могла так долго без них жить.
И все-таки я упорно мечтала быть полезной. На страницах своей тетради я спорила с Ренаном {165} 165 Ренан — см. коммент, к с. 46.
: я утверждала, что быть великим — не самоцель, что великий человек оправдывает свое существование лишь в том случае, если способствует поднятию интеллектуального и духовного уровня всего человечества. Религия убедила меня, что нельзя пренебрежительно относиться ни к одной личности, пусть даже самой незначительной: все одинаково имеют право реализовать то, что я называла извечной сущностью. Мой путь был ясно определен: совершенствовать себя, становиться духовно богаче и, наконец, выразить себя в произведении, способном помочь жить другим.
Мне даже начало казаться, что я должна передать приобретаемый мной опыт одиночества. В апреле я написала первые страницы романа. В нем я носила имя Элианы; гуляя вместе со своими кузенами и кузинами в парке, я нашла в траве скарабея. «Покажи», — сказали мне. Я ревниво сжала ладонь. Ко мне приставали, я отбивалась, пустилась в бегство; они бежали за мной; запыхавшаяся, с колотящимся сердцем, я ускользнула от них, спряталась в лесу и там принялась тихонько плакать. Но слезы мои скоро высохли, и я прошептала: «Никто никогда не узнает»; медленно побрела я к дому. «Она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы защитить свою единственную собственность и от ударов, и от ласк и всегда держать ладонь закрытой».
Эта история выражала главнейшую из моих забот: защищаться от посторонних; ведь хотя мои родители не жалели для меня упреков, они требовали от меня доверия. Мать часто говорила мне, что страдала от холодности своей матери и хочет для нас с сестрой быть другом; но могла ли она говорить со мной на равных? В ее глазах я была заблудшей душой, которую надо спасать, — одним словом, объектом. Твердость ее убеждений не позволяла ей идти уступки. Если она меня о чем-то расспрашивала, то не для того, чтобы найти со мной общий язык, — она вела расследование. У меня всегда возникало ощущение, что, спрашивая меня о чем-то, она будто подглядывает в замочную скважину. Уже одно то, что она предъявляла на меня какие-то права, приводило меня в оцепенение. Мать не достигала своей цели, сердилась и старалась сломить мое сопротивление удвоенной заботой, но я от этого только больше упрямилась. «Симона скорее разденется донага, чем скажет, что у нее в голове», — раздраженно говорила она. И действительно, молчание мое было не сломить. Я отказывалась спорить даже с отцом; у меня не было ни малейшего шанса изменить его взгляды, все мои доводы разбивались точно о стену: так же бесповоротно, как моя мать, он раз и навсегда решил, что я не права; он даже не пытался меня убедить, он меня уличал. В самых невинных разговорах таились ловушки; родители понимали мои слова по-своему и приписывали мне мысли, не имеющие ничего общего с тем, что я на самом деле думала. Я всегда пыталась бороться против ига языка; теперь я часто вспоминала фразу Барреса {166} 166 Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель, тонкий стилист, индивидуалист по убеждениям, известный своей трилогией «Культ меня» (1888–1891).
: «К чему слова, эти грубые уточнения, которые только усугубляют наши трудности?» Едва лишь я открывала рот, как становилась уязвима, и меня снова загоняли в мир, из которого я выбиралась столько лет подряд, — мир, где все имеет строго определенное название, место, назначение, где любовь и ненависть, добро и зло так же четко разграничены, как белое и черное, где все заранее известно, разложено по полочкам, классифицировано, растолковано, где всему вынесен окончательный приговор, мир четких граней, залитый нещадным светом, ни в чем не оставляющим ни малейшей тени сомнения. Я предпочитала хранить молчание. Но мои родители никак не могли к этому привыкнуть, они считали меня неблагодарной. Это меня огорчало: сердце мое было вовсе не таким черствым, как думал отец; вечерами, лежа в постели, я плакала; несколько раз я даже разрыдалась у них на глазах; это их шокировало, и они пуще прежнего стали упрекать меня в неблагодарности. Я подумала было действовать иначе: отвечать миролюбиво — попросту лгать. Но все во мне воспротивилось: это значило предать самое себя. Я решила «говорить правду, но коротко, без комментариев», — так мне не придется ни искажать мои мысли, ни раскрывать их. Это было не вполне удачным решением, поскольку тоже вызывало возмущение моих родителей, не удовлетворяя их любопытства. На самом деле выхода не существовало, я была загнана в угол; родители не переносили ни моих слов, ни молчания; любые мои объяснения — когда я все же решалась что-то пояснить — ошеломляли их. «Ты смотришь на жизнь со стороны, жизнь не так сложна, как тебе кажется», — говорила мать. Но если я замыкалась в себе, отец, сокрушаясь, говорил, что я себя засушила, превратилась в один голый мозг. Родители задумали отправить меня за границу; они стали спрашивать советов у кого только можно, совсем потеряли голову. Я старалась заковать себя в броню; уговаривала себя не бояться порицаний, насмешек, непонимания: так ли уж важно, какого мнения обо мне окружающие и на чем основано их мнение? Когда мне удавалось проникнуться безразличием, я могла смеяться без особого желания и соглашаться со всем, что вокруг меня говорили. Но в такие минуты я чувствовала себя точно отрезанной от остальных; я смотрела в зеркало на ту, которую видели окружающие: это была не я; меня там не было; меня не было нигде; как мне найти себя? Я заблудилась. «Жить — значит лгать», — думала я в унынии. Вообще-то я ничего не имела против лжи, но постоянно придумывать себе маски оказалось крайне утомительно. Порой мне казалось, что силы вот-вот оставят меня и я смирюсь с необходимостью стать как все.
Читать дальше