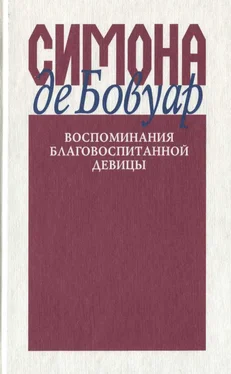Время шло, но узнавали мы не много. Тем не менее скучать нам не приходилось — такие яростные дискуссии затевали мы с Зазой. Особо бурные дебаты разгорелись на тему любви, которую называют платонической, и другой, которую не называют никак. Одна девочка отнесла историю Тристана и Изольды к разряду платонической любви; Заза подняла ее на смех. «Платоническая любовь? Между Тристаном и Изольдой? Ничего подобного!» — заявила она с компетентным видом, смутившим весь класс. Чтобы положить конец спору, аббат рекомендовал нам брак по расчету: не стоит, сказал он, выходить замуж за юношу только потому, что галстук ему к лицу. Мы простили аббату эту нелепицу. Правда, не всегда мы оказывались такими покладистыми; если тема брала нас за живое, мы не сдавались. Многие понятия мы чтили; такие слова, как «родина», «долг», «добро», «зло», были для нас значимы, и мы всего-навсего старались их прояснить; мы ничего не хотели разрушить — просто любили порассуждать. Но и этого оказалось достаточно, чтобы нас обвинили в «злонамеренности». Мадемуазель Лежён, присутствовавшая на всех уроках, заявила, что мы ступили на скользкую дорожку. В середине учебного года аббат задержал нас для конфиденциального разговора и заклинал «не черстветь душой», не то мы станем похожи на наших мадемуазель: это, конечно, праведные женщины, но лучше все-таки не идти по их стопам. Меня тронуло его участие и удивило, что он так заблуждается на наш счет; я заверила аббата, что ни за что не вступлю в их братство. Оно внушало мне такую неприязнь, что даже Заза удивлялась; при всей своей насмешливости она питала добрые чувства к нашим учительницам; ее немного коробило, когда я говорила, что расстанусь с ними без малейшего сожаления.
Моя школьная жизнь заканчивалась, что-то другое должно было начаться: что именно? В «Анналах» {127} 127 «Анналы» — скорее всего, имеется в виду журнал «Политические и литературные анналы», выходивший с 1883-го по 1939 гг.
я прочла воспоминания бывшей студентки женского института в Севре; я размечталась: автор описывала сады, в которых под луной гуляли жадные к знаниям прекрасные девы, чьи голоса сливались с плеском фонтанов. Но мама относилась к Севрскому педагогическому институту с недоверием, и я, поразмыслив, решила, что не стану замуровывать себя вдали от Парижа в заведении, где учатся одни женщины. Что же тогда? Я боялась случайности, заключенной в любом решении. Мой отец страдал от того, что в пятьдесят лет оказался лишен каких бы то ни было перспектив на будущее, и для меня хотел прежде всего надежности; он считал, что я должна пойти служить в какое-нибудь ведомство: это обеспечит мне стабильную заработную плату и пенсию в старости. Кто-то присоветовал ему Школу Хартий {128} 128 Школа Хартий — учебное заведение в Париже, готовившее библиотекарей.
. Мы с матерью отправились консультироваться с некой мадемуазель за кулисы Сорбонны. Я шагала по коридорам, где с обеих сторон на меня смотрели книги, а открывавшиеся по мере нашего продвижения кабинеты были сплошь заставлены ящиками с картотекой. Ребенком я мечтала жить в пыли ученых книг, и теперь мне казалось, что я попала в Святая Святых. Принявшая нас дама расписала все прелести и трудности работы библиотекаря; но учить санскрит мне совсем не хотелось, приобретать широкую эрудицию тоже. О чем бы я действительно мечтала, это продолжить изучение философии. В каком-то журнале я прочла статью о женщине-философе, звали ее мадемуазель Занта, она защитила докторскую диссертацию. Журнал опубликовал ее фотографию за письменным столом — лицо у нее было серьезное и безмятежное; жила она вместе с удочеренной ею юной племянницей. Значит, этой женщине удалось примирить свою интеллектуальную жизнь с требованиями женской чувствительности. Как бы мне хотелось, чтобы и обо мне написали однажды столь лестные вещи! В то время по пальцам можно было счесть женщин, имевших звание агреже {129} 129 Агреже — звание, получаемое на конкурсной основе и дающее право преподавать в лицее или высшем учебном заведении.
или степень доктора {130} 130 Доктор наук — ученая степень, равноценная нашему кандидату наук.
философии; мне хотелось стать одной из них. Единственной открывавшейся передо мной дорогой, при наличии этих степеней и званий, было преподавание; я ничего не имела против. Отец тоже не возражал против моих планов, только запретил частные уроки — он считал, что лучше добиться места преподавателя в лицее. Почему бы нет? Такое решение удовлетворяло моим вкусам и отцовским требованиям осторожности. Мать робко спросила совета у моих школьных учительниц; их лица тут же превратились в ледяные маски. Они жизнь потратили на борьбу со светскими нравами и не делали различия между государственным учреждением и публичным домом. Кроме того, объяснили они маме, философия смертельно разъедает душу: за год учения в Сорбонне я потеряю и веру, и благонравие. Маму это обеспокоило. Поскольку отец считал, что классический лиценциат открывает более широкие горизонты, и еще потому, что Зазе тоже разрешили изучать и сдавать некоторые университетские специальности, я согласилась пожертвовать философией ради филологии. Но я осталась верна решению впоследствии преподавать в лицее. Для школы это был скандал! Одиннадцать лет пестований, нравоучений, промывания мозгов — и вдруг я кусаю руку, меня кормившую! Во взглядах моих наставниц я равнодушно читала собственный приговор: неблагодарная, презренная отступница, поддавшаяся дьявольским соблазнам.
Читать дальше