Легко сказать, веди себя хорошо… Проще без мороженого обойтись, привыкли уж, что его доводится кушать от случая к случаю.
Еще утоляла мою тягу к сладкому халва — тоже полтинник с чем-то за кило. Она всегда была почерневшая, с белыми проблесками перемолотой семечкиной шелухи. Как седая щетина. Липкие, масляные оковалки.
— Почему она снаружи черная? — спрашивал я. — Не хочу, не буду! Счисти мне черноту!
— Ах ты брезгун, — корила меня бабушка. — В войну знаешь как эта халвица доставалась? На драку собаку, да сами не ели, детям малым отдавали, чтоб у них рахиту не было от голода. Это постное масло на ней чернеет, заветривает, чувствуешь его на языке-то, как маслом халва отзывает? Постное масло тоже делают из семечек, как халву.
С халвой мы подолгу пили чай из брусничного листа — после отъезда папы настоящий чай заваривался редко, бабушка берегла его только для гостей.
А больше всего я любил ходить за керосином. Бабушка давала мне, пацаненку, маленький крашеный жбан с деревянной затычкой, обмотанной тряпочкой, и я шел вприпрыжку, сжимая в руке разновеликую мелочь — литр керосина стоил шесть копеек. Керосиновая лавка находилась на главной улице Советской, между клубом Конина и угловой старинной аптекой. И лавка тоже была старинная, уже в семидесятом году ей почти сто лет было, как дедушке Ленину. А может, и больше.
Помню приземистый беленый дом из толщенного кирпича, без окон, с огромными чугунными двустворчатыми воротами. Как войдешь — прохладный сумрак, над головой — сводчатый потолок тонет в темной вышине, посреди лавки — огромная черная цистерна с керосином стоит на ножках… Пол земляной, пропитанный на аршин керосином. И запах — чудесный, век бы отсюда не уходил! Хмурый тощий керосинщик-татарин в черном халате принимает деньги, берет огромную, больше моего жбана, воронку…
А за баллонным газом приходилось постоять — его привозили нечасто, и стекались на газовую станцию все держатели баллонных плиток, поголовно, а это — сотни людей. И мы с тремя нашими пузатенькими баллонами часами томились в очереди под непрерывное мычание коров — за забором газовой станции располагалась скотобойня.
И обязательно кто-нибудь из стоявших за газом говорил:
— Куда же все мясо-то девается, ведь везут и везут каждый день коров на убой! Где мясо, а?
11
Бабушка делала вид, что не замечает моих страданий в одиночестве, она хлопотала и приговаривала: «Не хнычь, Санёга, как-нибудь проживем, ты да я да мы с тобой! День да ночь — сутки прочь!»
Или еще такое: «Мы с тобой — как рыба с водой», «Остались мы, старый да малый, что с нас взять?»
Мне выть хотелось после этих однообразных прибауток. И бабушка, словно чувствуя это мое настроение, вдруг начинала плакать чуть ли не навзрыд, и мне приходилось ее утешать: «Да, бабушка, так и есть — мы с тобой, как рыба с водой! Только, чур, я рыба, а ты — вода, хорошо?» Бабушка отсмаркивалась, улыбалась широко сквозь слезы, говорила: «Хорошо, Санёга, конечно — ты рыба, а уж я — вода».
Попыталась было выползти на свет божий из своей каморки бабушкина сестра — тетя Лида, надеясь, что теперь она пригодится, что, в отсутствие папы, бабушка перестанет ее чураться, и мы будем садиться за стол втроем — я, бабушка и она. Это было ее последним упованием в жизни, дальше — только Царство Небесное. Но бабушка тут же взяла власть в свои руки, показала тете Лиде, кто в доме теперь — главный. Я уже не помню, что тогда произошло, но тетя Лида навсегда замкнулась за перегородкой. Лишь иногда, как правило — ранним воскресным утром, тетя Лида приоткрывала свою обитую войлоком дверь, что вела из ее каморки в общие сени, и протягивала бабушке мелочь на пять-шесть свечек, и до меня доносился ее тихий голос: «Николаю Угоднику… Казанской… На помин…». Каждое воскресенье бабушка шла «к ранней обедне», и тете Лида караулила ее, прислушиваясь к звукам шагов в нашей «передней избе».
Точно так же передавала тетя Лида бабушке деньги на хлеб и крупу, соль и сахар. Брусничный лист на заварку бабушка выделяла ей, как нечто само собой разумеющееся. Он же бесплатный, не из магазина, значит — общий, как и огородный урожай. Тетя Лида брала, этим и жила старушка бессемейная. Она никогда не выходила из дому на улицу, никому не показывалась на глаза, и даже «поганое ведро» выносила в уборную не иначе, как дождавшись, когда мы с бабушкой ляжем спать — мне слышны были ее шаги, когда она, крадучись, выходила в сени. А печку свою тетя Лида топила брикетом из торфа, которым был много лет назад еще забит ее маленький сарайчик в огороде. Брикет она таскала из сарая в корзине, а делали этот брикет верст за тридцать от Егорьевска, на Торфболоте, где был, как я слышал, барачный поселок для рабочих. Туда старались выдавить из города всех сосланных на сто первый километр, к нам в Егорьевск, после отсидки в тюрьме. Там, «на торфянке», им самое место, пусть там хоть сдохнут или перережут друг друга, говорили соседи.
Читать дальше






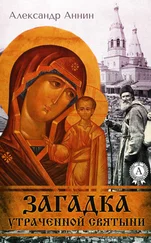





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)