Я очень боялся, что бабушка взаправду умрет. Причем — внезапно и «не за понюх табаку» — так сама она говорила о нелепых смертях. Бабушка ничуть не заботилась о своих ссадинах, шишках да порезах, которые «за дело не считала». Глядя, как она сама себе наносил нечаянные увечья, когда носится по дому или огороду, как чумовая, приходил я в бешенство, топал ногами и ревел:
— Хватит! Хватит себя гробить!
«Гробить себя» — это, конечно же, одно из бабушкиных присловий…
Она жила постоянно в каком-то безумном гоне, словно само продолжение окружающей жизни ежесекундно зависело от того, успеет она сделать все сразу, или — не успеет.
— Приходи, теть Оль, в хозчасть, забери сломанную загородку на дрова, — сказал как-то дядя Витя мимоходом.
И — не шагом, а бегом летит бабушка по тропинке, будто кто-то злоумышляет против нее, тщится отнять гнилушки, увести их у бабушки из-под носа… Я плетусь за ней с нехорошим предчувствием.
Бабушка, разумеется, не надела рабочие рукавицы — она именует их «голички», и теперь до крови ранит пальцы о торчащие из досок ржавые гвозди, всхлипывает, жалуясь на судьбу-злодейку, сгребает огромную, неподъемную охапку обломков, будто хочет за раз все унести, хотя это, конечно же, невозможно. И — опять бегом, чуть не подпрыгивая, с отвисшей и посиневшей от неимоверного напряжения нижней губой, несет черные доски по колдобистой тропинке. Спотыкается, падает с деревянным грохотом наземь… Я готов чуть ли не пнуть ее за это ногой, так мне досадно и жалко бабушку. Она плачет, подымается, кряхтя, я помогаю собрать обломки.
Потом выясняется, что бабушка сломала косточки левой ладони. Кисть руки отекает, болит невыносимо. Бабушка несколько дней бережет ее, потом, превозмогая ноющую боль, начинает разрабатывать захрясший «пирог». Кладет растопыренную ладонь на обеденный стол, мнет ее правой рукой… И надо же! Неделя-другая, и вот уж нет пирога, рука как рука… Что за чудеса?
Или — шла как-то бабушка по Советской, несла в обеих руках сумки с мукой и крупой, поскользнулась, растянулась на асфальте, да к тому же и затылком приложилась хорошенько. Приплелась домой со спутанными и слипшимися от крови волосами. И деловито принялась лечиться… газетами. Помню, намочит их и к затылку приложит, потом еще раз — уж другую порцию.
— Свинец там, Саша, он всю гнилую кровь из ранки оттянет.
Ну… Ладно, обошлось и на этот раз.
А к докторам бабушка никогда не обращалась, и не потому, что чуралась их по каким-то своим соображениям, а потому что стеснялась отвлекать да загружать людей образованных, занятых важными делами.
Один раз провалилась бабушка в подпол. Как так? А так. Топилась печка, все как обычно, и тут бабушке вдруг что-то срочно понадобилось в подполе — картошка, может. Она раскрыла подпол, а доску на краешек ямы положила. И — забегалась по избе, позабыла про яму отверстую. В общем, наступила на бегу на ту доску вынутую, да и ухнула вниз. Сильно отбила поясницу, еле выкарабкалась из подпола. Потом охала, кровью мочилась, а лицо ее сделалось красным и жарким от высокой температуры.
Я очень тогда испугался, глядя на стонущую в кровати бабушку. Я испугался просто до смерти, до звона в ушах!
— Давай позовем доктора! — кричал я исступленно. — Почему ты не хочешь, бабушка? Не умирай!
— Ни к чему доктора, — твердила бабушка, прихлебывая святую воду и крестясь. — Так, Бог даст, окри я ю.
Окрияю — значит, отойду, выздоровлю.
И окрияла через недельку, снова принялась носиться, как угорелая…
9
Слово за слово, мы выходим за ворота. Как сейчас я помню эти закаленные ветрами, растрескавшиеся, серые от вековых дождей ворота с тяжеленным засовом, чугунную щеколду… Фигурные крепежные полосы кованых петель, хоть и ржавые, а тыщу лет еще продержатся, ничего с ними не будет.
Оглядываюсь снизу вверх на черные от запекшейся олифы, надтреснутые и скрученные морозами бревна избы. И на окна, обрамленные широченными охряными наличниками, с затейливыми прорезями и завитушками. Это были самые богатые, самые причудливые наличники изо всех тех, что сохранились тогда на нашей улице с царских времен. Местами целые куски деревянного узорочья либо сами отломились, либо их обломали «просто так», походя, идущие мимо озорники (бабушка говорила — о зыри ). Я смотрел на эти окна, а они — молча «зырили» на меня, будто застывшие лица сказочных дедов, с косматыми рыжими бородами и нечесаными прядями волос.
Читать дальше






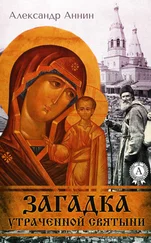





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)