Бабушка только покачала головой, но смолчала.
Иванова смеялась над моими рассказами, а я удивлялся про себя: «Почему она смеется, ведь у нее папа умер. Его убили, дядю Валю. Если бы у меня папа умер или бы его убили, я бы никогда в жизни больше не улыбнулся, я бы плакал каждый день».
Мы уже договорились с Ивановой, что будем после детского сада ходить в одну школу, в один класс и сидеть за одной партой.
— А вдруг нам не разрешат? — говорил я.
Иванова после этих слов как-то сразу становилась чужой, называла меня «бо я кой».
— Ты бояка!
А потом притворялась взрослой и равнодушной:
— Да нуси, подумаешь, можно и на разных партах сидеть, — как-то слишком легко отступала от наших планов Иванова.
И я снова испытывал тоскливую пустоту внутри, понимая, что мне всякий раз приходится ее уговаривать, а она лишь идет на уступки, нехотя и с каким-то безразличием. «И так будет всегда, — в отчаяньи думал я, — так будет всегда!» В ней нет радости, которая вспыхивала бы при моем появлении в детском саду, и никогда не повторится больше тот студеный, счастливый день перед Новым Годом, когда я был победителем, и она хотела водиться с победителем, гордилась мной и считала всех остальных хуже меня.
Мне вовсе не Иванова нужна была — я это уже потом понял! — а то чувство победителя, которое я испытал однажды, и которое волнующим, приторным зельем втекло в мое существо. Приторным, как пенки с вишневого варенья… Оно, это зелье, каким-то едким жаром расползлось где-то там, глубоко внутри, и требовало: еще, еще…
Снег начал преть кое-где, и нам объявили, что пора наконец-то лепить во дворе детского сада снежную бабу. Правда, Таисья Павловна ругалась, когда мы говорили слово «бабу», она велела называть ее «снеговик», и выходило так, что это уже не баба, а мужик.
Воспитательница вылила в ведро с водой несколько пузырьков желтой гуаши, оставила на ночь во дворе — пускай, дескать, замерзнет. А на следующий день дядя Федя ловко тюкнул обухом пожарного топора по донышку ведра, и вывалился желтый, гладкий колпак для нашего снеговика!
Мы всем скопом катали огромные, тяжелые и пухлые шары, забирая в них лежалый снег вплоть до черной земли, потом Таисья Павловна и дядя Федя громоздили их друг на друга — большой внизу, потом поменьше и, наконец, с дяди Валин футбольный мяч величиной. Затем прилепили снежные «лапти» внизу и короткие, толстые снежные обрубки вместо рук, торчащие в стороны. Дядя Федя водрузил на голову снеговика желтый ледяной колпак, вынул из кармана своей душегрейки черную морковку, воткнул ее снеговику вместо носа. И пошел за водой.
Он несколько раз полил снеговика из ведра, приговаривая свое излюбленное:
— Так оно вернее будет!
И вправду: снеговик на легком морозце, да с ветром, покрылся коркой наледи, «захряснул».
Все грудились вокруг этого грязно-белого истукана и не знали, что с ним делать дальше. Таисья Павловна тоже как-то вдруг утратила всякий интерес к снеговику, смотрела куда-то сквозь него, безразлично и устало.
Я повис на скользкой толстой лапе снеговика, подпрыгнул раз, другой. Крепко пристыла эта лапа, не оторвешь! В полной уверенности, что не смогу причинить снеговику никакого ущерба, я стал что есть силы долбить обоими кулаками по лапе, и вдруг — о ужас! — она с глухим хрустом отвалилась.
Таисья Павловна, до той минуты сонно смотревшая на мои выкобениванья, тут же встрепенулась, будто все это время только и ждала, только и предвкушала ЧэПэ с этим несчастным снеговиком. Она торжествующе возопила:
— Допрыгался! Доигрался! Ты сломал все наши труды, работу твоих товарищей по садику! Это был общий снеговик, а ты один его загубил! Ты вредитель! Марш сейчас же в угол!
А я с чувством непоправимой беды нелепо тыкал и тыкал тяжелым обломком снеговиковой руки в обнаженную рыхлую снежную мякоть, пытаясь приделать эту лапищу обратно. Нет, она не приделывалась.
— На обед! — громко прокричала с крыльца наша толстая нянечка.
Наверное, это меня отчасти спасло от дальнейшего посрамления. Я выпустил обломок из своих промокших варежек, он плюхнулся и рассыпался, и потрусил я виновато в направлении крылечка.
И всем, я чувствовал, было как-то неловко, не по себе.
Не помню, как мне удалось пережить тот постыдный для меня день, когда я стал общественным вредителем. Слава Богу, назавтра было воскресенье, это хоть как-то сгладило или — загладило — мой очередной позор…
Ах, какое же это было славное воскресенье, тот промозглый денек, последний день февраля!
Читать дальше






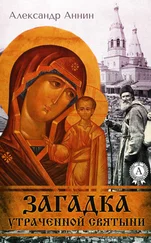





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)