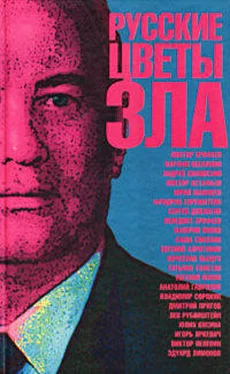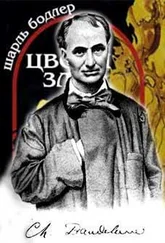А вел дивизион Николай Иванович Симиньков, и тут я должен сказать, что равных ему в фигуре, выправке и шаге не было не только в нашем дивизионе и полку, но, полагаю, и во всей дивизии: в его строевом шаге высшая армейская четкость удивительным образом сочеталась с аристократической легкостью и изяществом, это был шаг высшего класса, этот шаг мог бы украсить парад любого, самого высокого ранга, и было грустно сознавать и видеть, как этот шаг пропадает в нашем захолустье, — так тяжело и грустно бывает увидеть на раскисшей от непогоды колхозной ниве, среди изможденных баб в грязных сапогах и фуфайках, какую-нибудь молодую деревенскую красавицу…
Однако вернемся к делу… Итак, печатая свой отменный шаг, Николай Иванович повел за собой дивизион, как вдруг у самой трибуны, уже приняв стойку равнения налево, он вдруг зашатался, взмахнул руками и рухнул на заднее свое место… Поскользнулся ли он, неожиданная ли судорога свела его члены, сказалась ли усталость трехдневных учений, вдохнул ли где случайно паров ракетного топлива — бог его знает… тяжелый вздох прокатился по нашим рядам, генерал Бондаренко отвернулся, на мрачном лице полковника Супруна промелькнула злорадная усмешка…
Падение это, впрочем, произошло в считанные секунды, Николай Иванович тут же вскочил, поправился и пошел печатать свой шаг дальше, но именно с этого момента мы заметили в нем какой-то надлом…
А в тот злополучный день он так был расстроен, что даже не явился на обед с украинским борщом, отменными котлетами с картофельным пюре и неофициальной порцией спирта, закрепленной впоследствии вишневой наливкой из личных запасов сверхсрочника Бруя…
А вечером того же дня, уже дома, в Глыбоче, открыв на звонок дверь, я с изумлением увидел его на пороге. Вид Николая Ивановича выражал крайнее смущение, в руках же он держал штоф «Столичной». Я засуетился, пригласил его в дом, просил быть непринужденным и извинялся за свой внешний вид, поскольку мы с женой как раз расположились у телевизора перед программой «Время» и находились неглиже. Стол наш был тут же раздвинут и накрыт праздничной скатертью, появились закуски, милая моя Нина, понимая необычность визита, была особенно приветлива и внимательна. Через некоторое время, придя в себя и освоясь с ролью душеприказчика, назначенной мне Симиньковым, я как мог стал его успокаивать и утешать и даже напомнил ему его же слова, сказанные мне как-то в столовой, что главное — это служение Отечеству, а все остальное не стоит и выеденного яйца, — так нужно ли хандрить из-за какой-то нелепой случайности, о которой все уже и забыли! А для примера я рассказал ему, как еще до прибытия его в наш дивизион на одной из инспекторских проверок, утром, после ночного служения Бахусу, капитан Придыбайло не смог доложить проверяющему своей фамилии. «А ничего, служит ведь! — говорил я. — Поди, и майора скоро получит!»
Я взял в руки гитару, моя Нина, раскидав по плечам свои пышные, вьющиеся волосы, спела для нас романс, не забывал я и рюмки наполнять, и анекдоты какие-то вспомнил — старался то есть как мог, — и постепенно наш Николай Иванович оживился, повеселел, хохотал, называл мою жену Людмилой Зыкиной и даже танцевать хотел… Провожал я его уже глубокой ночью, шли в обнимку и громко пели что-то, кажется, из Высоцкого…
Событие, о котором я намерен теперь рассказать, произвело решительный поворот в судьбе Симинькова, и даже мы, дивизионное офицерство, не имевшие прямого касательства к этому делу, и то были потрясены и сделались как-то совершенно потерянными.
Случилось же вот что. Перед самой Октябрьской годовщиной Николай Иванович был вызван в штаб полка для получения бумаг особой важности. Утром с необходимой охраной выехал он в полк, к вечеру благополучно вернулся в дивизион, пакет с бумагами спрятал в сейф и опечатал его. Теперь уже трудно гадать, каким образом случилось, что на следующее утро, разбирая бумаги по описи, он обнаружил недостачу одной. По инструкции ему было положено о случившемся немедленно доложить в полк, но он этого не сделал, прекрасно понимая, что звонок этот уже сам по себе был бы приговором его судьбе. В те времена у нас в ракетных войсках на многое смотрели сквозь пальцы, многие грехи отпускались, и только одно каралось неукоснительно и беспощадно — нарушение режима секретности. Тут уже не миндальничали и давали на всю катушку. И вообще, пятно такого рода считалось несмываемым и приравнивалось к потере офицерской чести. Кажется, легче было быть уличенным в пьянстве или даже воровстве — не скажу, что все это воспринималось как должное, но все же со временем забывалось, стиралось как-то, — нарушение же режима секретности делало офицера в глазах начальства и даже друзей-сослуживцев парией. Такому человеку и руку-то подать бывало уже непросто.
Читать дальше