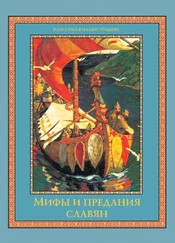Загремела на лестнице жесть алебарды. Все обернулись, замолчали. Сверху спускался неуклюжий пожилой человек, накануне поступивший в труппу. Сутулился, бычился, враждебно поглядывал вокруг маленькими глазками, глубоко упрятанными под массивными выступами надбровий. Был он похож на неандертальца, оказавшегося во враждебном окружении кроманьонцев.
Артиста этого Шлягер накануне пригласил на роль душегуба. Мощное тело выпирало из камзола, стянутого бронзовыми застёжками. Тугие резинки для удержания чулок пережимали вены под коленками. Проходя мимо сияющего зеркала, душегуб яростно прокашлялся, клокоча горлом. Осыпалась на плечи пудра с парика.
Актёр этот, надо заметить, сразу же вызвал вражду и большое раздражение у труппы, а особенно же у Бермудеса. Игорь Борисович объяснил своё неприятие новичка тем, что, дескать, от того нестерпимо «пахнет лошадью». На самом же деле причина была в ином. От Несвядомской тоже временами пахло лошадью, и ничего... Причина лежала гораздо глубже — фамилия дебютанта уж очень была похожа на фамилию Игоря Борисовича. Что для артистической славы весьма пагубно. Фамилия новенького была так же звучна, басиста, так же привлекала внимание на афишах, как и фамилия Бермудеса. Новичка звали — Савёл Полубес.
Презрительная гримаса играла на обезьяньих губах Савёла Прокоповича. Ещё раз прошёл мимо зеркала, с отвращением косясь на свои обтянутые ляжки с бантами под коленками, кривые, толстые икры в белых шёлковых чулках.
Из дальнего угла, где на лестничной площадке устроена была курилка, несло дымом. Там сейчас дружно смеялись, по-видимому над анекдотом.
Чуть в стороне от всех прохаживался взад-вперёд Бубенцов. Вскидывал голову, оборачиваясь на каждый взрыв хохота. Недовольно и неодобрительно дребезжали колокольцы на тиаре. Невинный смех сослуживцев Ерошка принимал на свой счёт. С некоторых пор, а именно с тех самых, как имя его стало нарицательным, популярным и зазвучало на всю страну, Ерошка в своём родном коллективе всё более отдалялся от прочих. Вот и теперь оказался в некотором, уже привычном ему, отчуждении и одиночестве. Только три или четыре самых близких друга — Бермудес, Поросюк, Смирнов да Чарыков — оставались в прежних тёплых отношениях с ним, умело хороня в глубине сердца профессиональную зависть.
Бубенцов одиночества не терпел, а потому это вынужденное положение, когда он не может, как бывало прежде, запросто присоединиться к смеющимся над анекдотом, по-дружески ущипнуть Полынскую, перебить чужой разговор или пошутить с чопорной Адой Брониславовной, — положение это его тяготило. Не с кем было поговорить, блеснуть острым умом. Некого было поразить оригинальностью мыслей, которые сегодня то и дело залетали в голову Ерофея. Невысказанные чувства клубились внутри сердца, теснились в груди, требовали выхода. А выхода не было. Ценнейшее духовное достояние пропадало втуне. Это было очень досадно.
Как известно, самое высокое наслаждение испытывает человек, когда делится радостью с ближними. Когда хвастается удачей, талантом, богатством. Тяжело не иметь возможности рассказать о своих успехах. Бубенцов прохаживался, поглядывая поверх голов. О, бремя избранничества! Даже и в спектакле свою роль обыкновенного шута он с некоторых пор стал считать центральной, главной.
Раздражённо звякнули бубенцы. Тревожное движение произошло на лестнице среди курящих. Взволнованной толпой вывалились оттуда в коридор актёры, рабочие сцены, осветители. Выступил из их среды Игорь Борисович Бермудес.
— С дороги, милочка! — загремел его оперный бас.
Отодвинул суфлёра Рыжикова, тщедушного, кроткого человека, страдающего базедовой болезнью. Игорь Борисович пошёл, возвышаясь над всеми на целую голову. Проследовал мимо Бубенцова в развевающемся чёрном плаще, шурша наклеенной бородой.
— Каин очнулся! — объявил громовым голосом, подходя к зеркалу, переминая и оглаживая бороду. Оскалился, тряхнул гривой, стал коротко рыкать, мощно двигая губами. — Чер-р-ти! Ни на кого нельзя положиться!
— Чарыков в запое! — горестным сопрано откликнулась Полынская. — И Смирнов с ним вместе. Только роль получил, а не бросил товарища. Парой запили. Теперь недели на две...
— На три! — рыкнул Бермудес.
Подобное объявление, сделанное в каком-либо ином учреждении или коллективе, могло бы вызвать огромный скандал. Предположим, перед началом испытаний крылатых ракет в кают-компанию явился бы мичман и объявил: «Начальник штаба в запое!» Нельзя обычному человеку даже и представить такое. Здесь же сообщение не произвело особенного впечатления ни на кого. Наоборот! Послышался надтреснутый, но очень бодрый голос Шлягера:
Читать дальше