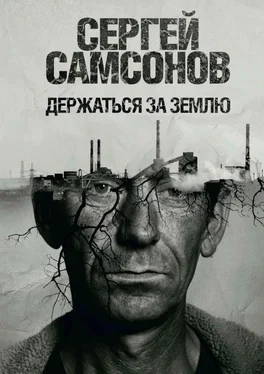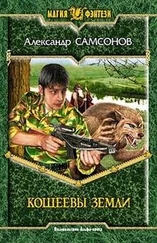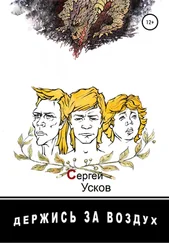— Вниз, вниз, вниз!.. — заревел начохраны, в припадке пьяного радушия затиснув Мизгирева, и корма бээмпэ резко дернулась, отнеслась за пределы лобового стекла, и земля под колесами выгнулась, вздыбилась, заиграла, как мышцы реки, и Вадим вдруг увидел рыжеватую плоскость откоса, а потом — полыхнувшее белое небо и новый коричневый пласт, снова небо и снова невиданно близкую, штормовую, прибойную землю.
От жестоких хрустящих ударов он слеп, почти терял сознание и снова приходил в себя от боли, и это продолжалось, продолжалось, молотило его отовсюду, все никак не вколачивая до конца в черноту и как будто ошкуривая до нагой сердцевины, не убило и остановилось, и, лишившийся кожи, сквозь боль он почуял придавленность и тесноту… но откуда тогда столько света и воздуха?
Впереди, за стальной арматурой, за спинками кресел, что-то мощно толкалось наружу, продавилось и вырвалось вон, дав дорогу слепящему белому свету и трескучему грохоту, открыв недосягаемый для Мизгирева лаз на воздух, на свободу… В тот же миг он почувствовал под собой чье-то тело, шевельнулся на этом сугробе мясном, и начальник охраны под ним замычал. Этот стиснутый рев и словно бы заразное безволие придавленного тела переполнили кровью и потребностью выскрестись из железного гроба. Пересилив ломоту во всем своем теле, он толкнулся наверх, двинул локтем стальную плиту и, обваренный стужей, почуял: заклинило! Повалился назад, на взревевшую тушу, заскребся и, нашарив какой-то железный рычаг, до надрыва внизу живота потянул, дернул раз-другой-третий и поднялся опять, напирая всем телом на дверцу, и, почувствовав верность свободы, извивался, толкался, сокращался, как червь… Перемог, отвалил, перевесился через стальное ребро, заскользил в пустоту и уперся ладонями в землю. Распластался ничком, обессилев.
В вышине над машиной колотилась гремучая дробь, что-то лопалось, ухало, тенькало, что-то с визгом секло, разрывало, трясло весь доступный его слуху воздух… Этот грохот и свист понемногу продрал до костей, и, не в силах подняться, Мизгирев по-собачьи пополз от машины, словно и впрямь по-детски веря: чего не вижу, то меня и не коснется… И тут кто-то пнул его в бок — споткнулся о Вадима и упал. Мизгирев на мгновение сжался в ожидании новых ударов и, не видя вокруг ничего, кроме бурой земли и дрожащего белого неба, бросил тело вперед, выкарабкиваясь из-под ног повалившегося, словно из-под огромной бодливой коряги…
Страх поднял его на ноги, хоть казалось, что в теле не осталось пружин, страх наделил его каким-то панорамным зрением, и Вадим вмиг увидел и протяжный увал, на котором дымилась броневая машина конвоя, и свой собственный джип, что лежал на боку, кувыркнувшись сюда, под откос, и залезшего в джип, как собака в накренившийся мусорный бак, человека, и катившихся вниз по откосу солдат с автоматами, и пустынное поле с темной выпушкой лесопосадки и туманными башнями кумачовской окраины.
В тот же миг наверху что-то грохнуло — над холмом взвился огненный мусор, словно вырос колючий букет из железных, докрасна раскаленных цветов. Этот взрыв хлестанул его, как пастушеский кнут. Та же сила, которая корчевала его из машины, понесла Мизгирева прямо к лесопосадке, стиснув голову обручем, не давая ему обернуться… Все пространство, все сущее в мире сократилось до больно пульсирующей кровяной, жаркой точки, до него самого, до огромного сердца. В спину бил безумолчный зазубренный грохот, словно свора унюхавших Мизгирева собак, задыхаясь, рвалась с поводков, раздирала клыками парной, плотный воздух, даже будто бы цапала пустоту возле пяток, погрызала прибитую землю, следы…
Спотыкался о комья, о кочки, обдирал грудь и горло песочным дыханием и не мог ни нагнать свое сердце, ни выбежать из железного этого лая… и почувствовал вдруг, что за ним кто-то ломит. Обернулся: солдаты — один, два, четыре… Кто такие? Убить его? Его-то, который единственный не должен и не может умереть вот тут? Занять его место под теми вон елками? Чтоб стреляли по елкам, по нему, Мизгиреву?.. И бежал, как бежал, и не сразу увидел и понял, что бежит уже не к перелеску, а к бетонным коробкам Высотной, словно это земля повернулась, как круг гончара, и его развернула лицом к Кумачову.
Всей оставшейся силой вложился в понятное, изначально-родное, свое — в те дворы, где расчерчивал землю перочинным ножом на куски, в те подвалы, в которых скрывался от взрослых, учась курить, в очертания улиц, по которым не раз уходил от погони, в череду указательных стрелок, нацарапанных древними казаками-разбойниками на бетонных фундаментах. Он бежал в никуда не девавшийся город своего заповедного детства, потому что когда-то там не было смерти. И бетонные башни Высотной росли с каждым шагом, словно он выколачивал их из земли… Стало видно белье на балконах, перекрестья домовых антенн, тополя и березы, каких всюду тьмы и каких больше нет ни в одном другом месте на свете. Полетел как с горы, узнавая все-все, и вонзился в просвет меж домами, словно пленку какую прорвал и попал в очистительный воздух, подхвативший, понесший его, даже будто во время другое, где всего, что могло уничтожить его и владело им только что, нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу