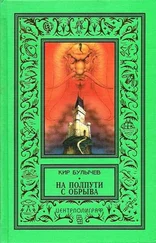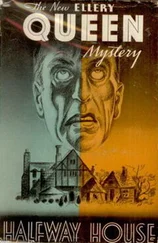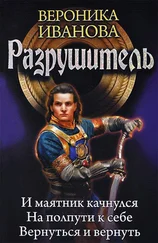— Вас? — немец, бледнея, отступал от нее.
— Когда ее расстреливал, сам небось на гармошке играл? — Фрося вспомнила то болото, расстрелянных… — Чтоб вы сдохли, фашисты проклятые!
— Фройлян, медхен презент, псшениг, — бормотал немец, то предлагая, то пряча в карман гармошку, которую держал в руке. — Их бин нихт фашист!
Фрося неожиданно обмякла, опустилась на бревно, валявшееся рядом, и заплакала.
— Что же я делаю, что же я делаю?! Мне ведь тебя добру завещано учить! Давай гармошку, — устало сказала она немцу.
Тот стоял, не понимая, что от него хотят.
— Вас?
— Гармошку, — говорю, — давай.
— Их бин нихт фашист, — все повторял немец. — Их бин камарад.
Он заискивающе улыбался, переступая с ноги на ногу.
— Вот чурбан.
— Я, я, чурбан!
— Говоришь, камарад, тогда давай, — Фрося сквозь слезы усмехнулась и протянула руку к гармошке.
Немец понял — протянул.
— Пойдем, доча.
Взяв гармошку, они ушли в свою семиметровку.
Комната была обставлена соседской мебелью, пылившейся до этого в одном из углов кухни. Когда появилась семья Ребковых с небольшим фибровым чемоданом, в котором содержалось их богатство, хозяйство и гардероб, Рождественская предложила Фросе, если той не покажется обидным, обставить комнату этой мебелью.
Таким образом у Фроси и Юны появился однотумбовый письменный стол, ставший и обеденным, хромая трехполочная этажерка с витыми ножками. На первой полке расположилась нехитрая Фросина косметика и галантерея, на второй — Юнины учебники и тетрадки, а на третьей — книги. Из каждой получки Фрося старалась обязательно купить книгу. Они вместе читали, а потом пересказывали друг другу. Эти пересказы не были похожи один на другой, потому что каждый из них придумывал что-то свое, и не раз в конце концов от основного содержания оставались только имена героев.
Ящиков в тумбе стола не было. Вместо них там стоял футляр от патефона с ценными бумагами: облигации, паспорт Фроси, свидетельство об окончании ею курсов медсестер и фотография того весеннего дня, когда жених уходил из госпиталя. Она стояла на крыльце и махала ему рукой. Василий был снят вполоборота. Здесь же лежал дубликат метрики Юны. В графе «отчество» было указано имя Фросиного жениха, поэтому полностью ее имя и отчество звучало как Юнона Васильевна Ребкова. Когда Юна стала учиться в школе и дети начали смеяться над ее именем, она очень просила Фросю изменить имя. Но та ни в какую не соглашалась:
— За него заплачено жизнью твоей мамы. Не позволю ее волю нарушать!
В том же патефоне лежали Фросины медали и орден Красного Знамени. Туда же Фрося всегда складывала свою зарплату. Одностворчатый шкаф со скрипящей дверцей и одним ящиком внизу, два колченогих табурета и огромная, по представлениям Юны, полутораспальная медная кровать, покрытая никелем. Кровать эта сделалась для них символом домашнего уюта, которого обеим так недоставало все эти годы. На кровати они с Фросей спали вместе.
Предлагая Фросе кровать, Рождественская говорила:
— Знаешь, Фросенька, мы эту кровать еще с мужем в тридцатом году на заказ делали. Как только поженились.
Кровать была с двумя закругленными спинками, державшимися на двух рейках. Кое-где никель стерся, и проглядывала рыжина меди. Юна, мечтая о чем-нибудь, любила водить пальцем по этой рыжей отметине. И еще любила высунуть голую ногу из-под одеяла и продеть ее между планками.
Когда на кровать садились, ее сетка протяжно стонала, издавала мелодичный высокий звук, будто спрашивая: «Что случилось?» По утрам, перед школой, прежде чем начать одеваться, Юна неизменно вскакивала во весь рост, прыгала на кровати. И ей казалось, что она летит.
Вернувшись со двора, Фрося присела на кровать и достала из тумбы стола кастрюлю с черным хлебом, завернутым в льняное полотенце. Отрезав краюху, она протянула ее Юне:
— На, отнеси ему. Небось рыжий есть хочет. Может, и в нем зерна добрые не погибли, может, еще прорастут они в его душе. Иди, доча, иди.
С того времени Юна стала замечать, что ведь мама Фрося никогда не жалеет своей души и сердца для людей.
— Добро не должно зависеть от выгоды, которую можно получить за него. И не должно оно выдаваться по карточкам или расписанию, как дежурства в больнице, — иногда говорила Фрося.
Теперь-то Юна понимала, что уже тогда молодая женщина пыталась взрастить в ней, в своей дочке, доброту.
Юна видела — к Фросе обращались с просьбами, и не было в доме квартиры, где бы она не побывала: делала уколы, ставила банки, а в свободные часы просиживала около больного одинокого человека. Не все ей платили добром за добро, но Фрося не озлоблялась, не кляла людскую неблагодарность, всегда искала лучшее в человеке и много прощала даже за маленькую каплю добра.
Читать дальше
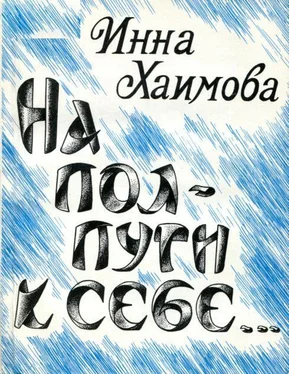

![Карен Фаулер - Полпути [Halfway People ru]](/books/33522/karen-fauler-polputi-halfway-people-ru-thumb.webp)