Неожиданно он сказал, что слушанье музыки способствует образованию большой жажды. Удивился напыщенности, пустоте и фанфаронству этих своих слов, которые сказал словно даже не он. А кто-то другой. Она, думая о своем, не поняла. Потом рассмеялась. Уже вместе с ним. Однако стакан поставила на стол не допив, с сожалением, как маленькую свою тайну, слабость.
Они вышли из буфета. Да, вышли. Как из «Шинели». А в зале он пригласил ее на верхотуру, к себе, и она, зная, что ничего оттуда не увидит, неожиданно согласилась. Когда притушили свет и пианист, отстраненно помяв руки, вновь заиграл, она сразу начала взволнованно дышать. Как это делают многие музыканты. И брошь ее вместе с нею тоже словно вдыхала и выдыхала. Притом по-скорпионьи. Со щупальцами, как роса. Это отвлекало, но и смешило. Новоселов уже не боялся. Не верилось в их скорпионью хватку. Этих росных щупалец. Он сказал ей об этом. Не обращайте внимания, ответила она, мама нацепила. От быстрой руки брошь потухла, исчезла куда-то. И эта решительность соседки, и особенно ее слова «мама нацепила» как-то сразу сблизили его с ней, сделали понятной, своей, свойской. Точно знал ее давно, знал всю жизнь. «Новоселов!» – сказал он ей. «Ольга», – ответила она. И даже, привстав, куце пожала ему руку. Пианист бурлил в Листе. Отвернув голову в сторону. Сталкивая руки клавиатуре. Словно наказанье свое. Словно чтобы они заиграли, наконец, сами. Сами по себе, без его, пианиста, участия. А он, отойдя от рояля, смог бы со всеми за ними наблюдать. Давать указания, поправлять, любоваться…
Как положено после концерта – Новоселов провожал. Она жила неподалеку, возле Пушкинской. Новоселов много говорил, шутил, размахивал руками. Исполнитель-пианист ему не понравился: все аккорды у него были как консервные сплюснутые банки. Гармонии в аккордах должны при исполнении расцветать. Цветами, садом. Каждая своим цветом, запахом. Не правда ли? Вот тут как раз и обнаруживаются два разных подхода в понимании музыки, сразу подхватила она. Разные восприятия эстетики музыки: кому консервные банки – бальзам на душу, а кому – только цветы.
Тогда же впервые высказал он мысль, несказанно поразившую ее, студентку консерватории, музыковеда. Представлялось ему, что композитор, музыку которого они слушали в конце (а речь шла о Шостаковиче), в самом начале своего искусства, у истоков его… был вроде мальчишки-изгоя в многоголосом, но едином своими законами дворе. В дворовых играх… Стоит в стороне, смотрит на ловких сверстников, мысленно повторяет ловкие их движения, увертки, прыжки… Не в силах сдержаться, подражая им, вдруг сам выкинет что-нибудь такое… Но все видели, что неумело это, нехорошо, бездарно. Если заорет – то черт знает что! Побежит – то обязательно подскакивая, подкозливая на бегу… То есть он был с вывертом, не как все. Смурной.
Давал козлов не туда, не так. Но постепенно козлы эти его осмелели и стали даже нахальными. Его начали критически бить. Не помогло. Козлов в его музыке становилось все больше, козлов удержать уже было нельзя: они скакали, поддавали вверх, орали не своими голосами, кукарекали, мычали. Уже не обращая внимания на двор. На мнение. А сверстники стояли недоумевающей толпой: оказывается, всё это называется гротеском, эксцентрикой, эксцентричностью – новым в музыке. Течением…
Обо всем этом и говорил Новоселов новой знакомой, удивляясь сам открывшемуся в нем, неожиданному, в понимании этой сложной музыки. В ней как раз и было много от той кособокости таланта, о которой не раз говорил ему Серов. Как вы считаете, Ольга? Ведь верно?..
По Палашевскому переулку шли за ускользающими, в руки не дающимися лучами. Точно на ощупь. Когда дорога раскрывалась, закат над ней начинал гореть карминностойко, как сожженная за день солнцем кожа. И снова раздергивался на лучи, снова ускользал, затягивая Новоселова и Ольгу за собой дальше в катакомбный переулок.
У Палашевских бань, возле пивной бочки, стояли с кружками побанившиеся пивники. С накинутыми на выи полотенцами, напоминали бивак воинов после дневной битвы. Отдохновенный у походного костра, у походной кухни. Раздатыми бычьими глазами воины удивленно провожали парочку. Его, долгана, орясину, и ее, пигалку. Шмакодявку. Новоселов и Ольга наклоняли головы, посмеивались.
Словно пригибаясь в утлой длинной арке, вышли в тесный двор, где окна вокруг были темны.
Мусорный бак благоухал, как тюльпан. Ольга косилась на бак, хотела поскорей проститься и уйти, но Новоселов говорил и говорил. Пришлось вывести его снова на улицу и там стоять, слушать.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


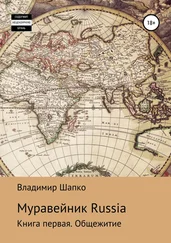

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




