Гася папиросы, посмеиваясь, парни пошли в квартиру Кочерги. Занятный старичок. Запоминающийся! И кобелек его тоже!
Потом все вернулись в комнату. Где абажур уже светил. Где абажур был как перс. Пили чай из сервизных чашек с блюдцами. Разговаривали. Наконец парни поднялись, чтобы прощаться. Кочерга стоя ждал, когда найдут его руку, застенчиво улыбался. Как светящий себе, горбоголовый фонарик. Просил приходить еще. Не забывать. Парни дружно обещали. В тесной прихожей вытягивались за плащами, топтали на полу много обуви. Кропин, смеясь, растопыривался, торопливо выдергивал ее из-под их ног, освобождал дорогу. Распрямившись, слегка окосев от летающих белых мух, тоже отдавал на прощание свою костлявую стариковскую руку, запрятывая другой рукой за спину какой-то драный черевик Кочерги…
Луна приводила и держала в комнате дрожащие тени. Кочерга лежал среди них, словно среди тенистых льдин в ночном весеннем озере. В широко раскрытых глазах его, как в подводных царствах, все было просвечено… Потом глаза закрылись.
…В облицованном кафелем помещении с тремя чашками света под низким потолком он опять увидел Ладейникова, привычно раскладывающего все на столе… Как будто хирург готовился к операции. Доцент. Профессор. От болезни витилиго засученные пятнистые руки палача были цвета обнаженного нежного мяса. Галифе, удерживаемое подтяжками, висело оскуделой бабьей ж… Он повернул к уже посаженному на стул Кочерге свой ласковый голос: «Позвольте, Яков Иванович, для начала вам галстучек повязать?.. Да не тряситесь, не тряситесь! Я нежненько, нежненько… Куркин, придержи-ка!..»
Через минуту – лежащий на полу, на спине, без воздуха – Кочерга подплывал в своей крови. Ладейников высился над ним, широко расставив сапоги. Обритая голова его была как пест в розовых лепестках роз. «Ну, как, Яков Иванович? Терпимо?»
Пятнистая нежная рука сняла со скамейки ведро – и в лицо, совсем убивая дыхание, ударила ледяная вода. Задыхаясь, вздыбливая грудь, Кочерга… проснулся. Или очнулся – не мог понять сам.
Тихо шарил на стуле лекарство, стараясь не разбудить Кропина, спящего возле тахты. Не хотел ни о чем думать. Пальцы никак не могли выковырять из пластины таблетку, тряслись. Выковыривал. Поглядывал на Кропина.
Круто закинув голову, точно сидя на вокзальной скамье, спал бедный Дмитрий Алексеевич на раскладушке. Как и Кочерга минуту назад, задыхался, видел нередкий для себя, военный сон. Во сне том, через равные промежутки времени, из пещеры принимался бить крупнокалиберный пулемет. Бить угрожающе, поучительно. Срезанная длинными очередями хвоя осыпалась килограммами. Кропин вжимался в мох, охватывал голову. Потом на минуту повисала тишина… И опять будто прыгала в пещере устрашающая грохочущая сороконожка!.. Гадина, как до тебя добраться?.. Кропин услышал толчки. В плечо. А? Что? Проснулся. «На бок повернись, Митя, на бок!» Кропин ничего не соображал. «Извини». В раскладушке поднималось щебетанье, точно в птичьей клетке…
Луна ушла, пропала где-то в облаках, в комнате стало темно, но Кочерга по-прежнему не спал. Голову ломило. Особенно затылок. Голова ощущалась как большая, тлеющая изнутри батарея. Как большой, поедающий сам себя элемент… Снова шарил стакан, запивал какие-то таблетки. Измученно, как сгорая, торопливо храпел Кропин.
32. Все то же наше общежитие
За спиной, в общаге, пропикало семь. Автобус не шел. Вокруг фонаря спадал снег. Подобно деревцам – вразброс – стояли в этом мартовском тенистом снеге пэтэушники. Полуодетый, запахиваясь полами пальто, Новоселов собирал в чуб снег, как поп брильянты в митру. Со сна добрым, пролуженным голосом говорил пэтэушникам: «…И столы привезли, и мячики, и ракетки. Профком, наконец, раскошелился. Нажали. Все у меня лежит, на пятнадцатом. Сегодня вечером и поставим у вас на этаже три стола. Ну, и один Дранишниковой кинем, в красный (уголок)…»
Пацаны оживились. Точно схваченные одной тайной: кинем, значит, Дранишниковой, в красный. А Новоселов уже говорил о клубе. Об атлетическом. О клубе атлетов. Где можно будет мышцы покачать. И человека нашел. Мастер спорта. Мировой мужик. И недалеко живет. Два раза в неделю сможет приходить, показывать. Сразу согласился…
Говорить было больше вроде не о чем. Немного стеснялся ребят. Ожидающе поглядывал на дорогу. А автобус все не шел.
Наконец вывернул. Всегдашний «икарус». Взболтнув снегом, как пухом, пэтэушники разом снялись. Полетели. Мгновенно облепили автобус со всех сторон. Словно где-нибудь в Мадриде быка. Везлись с ним. Что называется, на рогах его, словно сламывали на колени. И разом остановились, укротив. И выворачивали веселые головенки к Новоселову, мол, как мы его сегодня сделали? И подбежавший Новоселов, как распоследнейший какой-нибудь «тарера», ругал их распоследними словами. Словно показывал и показывал им главную их ошибку, пожизненную их глупость.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


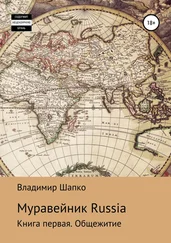

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




