Хихикая, Кожин смотрел на сожительницу, пока она открывала ключом свою дверь… Эта не довольствовалась обыденным. Общепринятым. Не-ет. Этой подавай все время новенькое, неизведанное… Ночами она резко выворачивалась из-под него. Потная и будто бы даже злая… Подумав в полумраке, она нависала над ним роковым образом. Демонически!.. От радости он орудовал под ней будто в пещере: скрючивался, суетился, хватался «по потолку». «Григорий!» – выдыхала она, как Аксинья, как Быстрицкая в фильме. С хохлацко-донским «г». «Гри-ишка!» – И рушилась на него. А он точно захлебывался ею, подкидыва-ясь. Какой Григорий, какой Гришка? Хотя был Григорием, хотя был Гришкой…
В позе виноватой козы… она невыносимо тужилась, точно никак не могла родить. «Григорий! Гришка!» А он страшно работал. Словно хотел немедленно помочь ей. Помочь в родах. Пробить, освободить пути. Размахивал над ней ручонками, пропадал. Потом, вцепившись в задок, зверски мял его, раскачивал и рушился с ним на бок – сраженный. «Гри-ишка!» – ревела она пожаркой на перекрестке…
Или встанет над ним после всего, победно расставит ноги – и смотрит большущими глазищами на содеянное ею… А он – счастливенький, пьяненький – только возится под ней распаренным червяком и стеснительно водит рукой перед глазами. Не верит глазам своим… А она – стоит. Руки в бока. И мокрый альбатрос точно в паху дышит… Ужас! Умереть на месте!..
Да-а, это было счастье, подарок судьбы, бальзам на израненную душу. Счастливый, посмеиваясь, Кожин спрашивал ее, где же она все-таки научилась этому… «Григорию». Смерив его взглядом, Силкина хмыкала, ничего не отвечая. Она сидела уже на краю тахты, уже при полном свете, щеткой оглаживала модно обесцвеченные свои волосы, как будто короткий белый оборванный мех. Позвоночник был вставлен в нее, как градусник. Кожин не мог удержаться, чтобы не тронуть пампушку его, застрявшую меж ягодиц. Температура оказывалась подходящей. «Отстань!» – откидывали его руку.
А под утро опять был «Григорий», еще один был «Гришка». И счастью, казалось, не будет конца…
Сейчас не верилось, что всё это было, казалось вымыслом, сном. Обо всем если вспомнить – страшно!.. «Григорий! Гришка!» Да-а. Зигзаг удачи. Кто бы сказал тогда, как будет сейчас – плюнул бы в рожу. Кожин тянулся к бутылке, наливал полную. «Григорий! Гришка!» И водит взглядом, как гибнущая где-то внутри себя коза. И нижняя губа дрожит, отвесилась… «Григорий! Гришка!» Разве это забыть?! Эх! Ну, будь, Джога! Заглатывал водку. Тылом ладони отирал брезгливые губы. Хрустел редиской, выгрызая ее прямо из пучка. Подкидывал вслед соли. Ни ложек, ни вилок на столе не было. Ни к чему. Всё руками. Пальцами. Нож вот только. Чтоб пластать ветчину. Держи, Джога! Лопай!..
Закинув ногу на ногу, ссутулившись, задумчиво тянул табак из длинного мундштука. С губой – как улйта. Пепел падал неряшливо на пол. Как мак, обвенчивал редкие волоски по ноге, шлепанец.
Уже перед уходом к себе зачем-то открыл холодильник. Смотрел в нереальный резкий свет его – как будто в законсервированную сказку. Наклонился, взял яблоко. Яблоко было свежо, прохладно. Как щека женщины с мороза… Положил, не тронув, обратно. Нагорбленный, смотрел в окно на пустой двор. Грудь в волосах походила на размазанное гнездо. Моргали, полнились слезами крокодильи стариковские глаза. Поглядывая на него, Джога нервно облизывался, взбалтывая брылы. Как будто незаметно от хозяина стирал их. В лохани. Потом деликатно переступал за ним, покачивающимся, по коридору. Косил назад цыганским глазом. На кухне всё было брошено на столе. Из бутылки не выпито и половины, не съеденной осталась ветчина на тарелке. Всё так и будет валяться, пропадать до утра. Хозяйка не уберет, не дотронется ни до чего. Потому что очень брезгливая…
Ночью Джога таскал неприкаянные свои брылы по освещенному, не выключаемому на ночь коридору. Таскал, как все то же грязное белье из лохани. С которым не знал, что делать, где достирать. Осторожно подходил к закрытым дверям. Поскуливал. Ждал ответа…
Снова принимался ходить. По сопливому паркету лапы стукали, как маракасы.
31. Старость и болезни Кочерги
Выше этажом грызла тишину супружеская кровать. Деликатно, как мышь. Иногда теряла терпение, воспитанность. Принималась громыхать. Поражала ежесуточная эта, священная обязательность супружеского ритуала. Его мышиная извинительность, но и неотвратимость… Наконец похрустывание начинало обретать силу, напор. Приближая себя к наивысшей точке, к пику блаженства. И разом обрывалось всё, – как с вывихнутой челюстью… По потолку тут же бежали пятки. В ванной начинала шуметь вода… И ведь не надоедает людям. Удивительно. Кочерга накладывал на голову маленькую подушку, старался не думать ни о чем, заснуть. Но сна больше не было.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


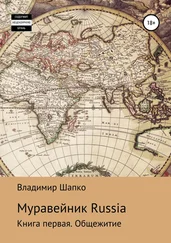

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




