С папкой, как у Серова, бородатый пошел. Хлопнул дверью.
– Вот – пожалуйста! Экземпляр! И таких сейчас – сотни! Уже не просят, нет, – требуют, стучат!
Толстенький Кусков заложил большие пальцы в кармашки жилета. Остальными поигрывал на выпяченном животе. Резко вставал на носочки. Как бы прикидывал свой вес. С весом все было в порядке.
– Нет, Серов, не-ет. (Серов сразу осознал свою вину, свое пожизненное родство с бородатым, понурил голову.) Писатель должен быть худым, Серов. Тощим. Голодным, злым. Как гончак. Вот тогда он добежит. Вот тогда он догонит. Зубами схватит свою удачу!.. Зу-бами!..
Толстенький человечек опять подкидывал себя на носочки и покачивался с заложенными пальцами рук. Он был Первый Заместитель Главного Редактора. Достиг. Дотянулся. Допрыгнул с носочков. Вон, даже под оргстекло на двери фамилию свою загадил. Все правильно. Тощий Серов (тощее некуда, гончак!) стоял перед качающимся самодостаточным пузаном, не зная, отвечать или не отвечать?..
Один был полный, лысый, с двумя клубками раскаленной проволоки на щеках, другой – худой, бледный, с вислым остывающе-фиолетовым носом, который он периодически макал в пиво. Стоя за одним с ними мраморным столом, Серов упорно глотал резиновое. Не пиво – резину. По семьдесят коп. стакан. Стакан за стаканом. Говорил, как радио, вылезшее из подполья. Неизвестно кому. «Самоедство сюжета. Заданность сюжета. Вот что им нужно. Заданность. Чтоб самоедство схемы было, идеи. Чтоб всё подчинялось им. Чтоб схема пожирала самое себя. Фильм о пьянице, к примеру. Об алкоголике. A-а! Мы уже знаем, что нас ждет там. Всё зарезервировано для этого, весь антураж, вот как здесь: забегаловка, дым коромыслом, алкоголики над столиками, как поголовье. Герой стоит, пьет резину, два бича рядом – пиво. Один толстый, другой худой. С носом. С карикатурным. Для контраста. Для хохмы. Всё зарезервировано. Заранее. Век назад. Сво-ло-чи!» Серов сходил в дым и неожиданно вернулся с пивом. С двумя кружками. «А рецензии их? Внутренние их рецензии? Которые они всегда садистски подсовывают тебе? Это же блины! Неотличимые блины! Блины русского православия! И во здравие можно, и за упокой! И живой вот ты пока на этой страничке – поешь наш блинок, услади душу, а на этой ты уже сдох – и жрем теперь блины мы! На помин тебя! Ясно я говорю? Или разжевать?» Исподлобья Серов счет предъявил толстяку. Глаза бича не давались. Он хлебнул пива. Точно своей отрыжки. Худой, наоборот, навалившись на столешницу, изучающе смотрел на Серова из-под носа своего, будто из-под палицы. «Хватит тебе, друг… Хорош уже…» – «Слону дробина!» Серов будто на спор начал дуть из кружки не отрываясь. Закусывал пиво, будто лошадь удила. Выпил. Вторую кружку… двинул к носатому. С пьяным морем по колено в башке – пошел. Из пивной.
– Папку забыл!.. Писатель!..
Вернулся. Забрал. Снова пошел.
На бетонном крыльце редакции ветеран толкал его. Сталкивал с крыльца. С лицом, как несмазанная судорога. «Да ответить мне! – боролся Серов. – Ответить мне надо! Козел!..»
Поматывался у крыльца. С папкой. Как с неразлучной плюхой. Раздувал ноздри. Увидел другого ветерана. На пустыре который. Белоголовый. Ага! Сейчас я тебя!..
Точь-в-точь как Кусков, пыжился, вставал на носочки, гундливо говорил приостановившемуся у земли человеку с испуганным старым лицом. Что-то насчет ишаков, насчет бесполезного ишачества. И вообще – что он тут ковыряется второй год? Кто разрешил? Кто позволил?
Белоголовый стряхивал с колен землю, точно готовился вмазать шакалу. Высоко засученные, сплошь татуированные руки его как-то неуправляемо поматывались. Как змеи. Как шершавые ужи. Перехватив взгляд Серова, он скатал рукава рубашки. Застегивая пуговки, стоял перед пьяным сопляком с папкой, словно вернув себе отрешенность, смотрел в никуда… Серов начал было опять…
– А ты кто такой?
– Я?.. Писатель!.. Шофер… А в чем дело?!
– А ты отпаши с мое, земляк, может, тогда и поймешь чего.
Серов тупо думал.
– Прости, старик… Давай вместе… – Отшвырнул папку. Под угрюмое молчание белоголового выдернул из кучи деревьев кусток. Всунул в ямку. Охватил его весь до верху, чтоб ветки не мешали.
– Давай! Засыпай!
– Костюм испортишь…
– Ерунда. Давай!
Старик ползал, засыпал, загребал руками. Потом ползали оба.
Сидели с двумя бутылками румынского сухача, как с игрушками, как с кеглями. (Сколько их надо наколотить? Чтоб до упору? Уйму!) Сидели на ящиках. На пустой таре. В заднем дворике гастронома, заваленного этой тарой до неба. Отсасывали из бутылок, засовывая их в скошенные брылы. «У меня этих рецензий, отец, тьма. Все они – как блины в русском православии: и во здравие можно употребить, и за упокой!.. Где-то я уже говорил так? (Говорил в пивной. Часу не прошло.) Да ладно. В общем как хочешь, так и употребляй. Впрямую в рожу уже не бьют – уровень рукописи не позволяет. А всё так – из-за плеча как-то, из-за уха. И вот – рукопись перед тобой: отвергнута – это правда. То есть блин-то, в общем, за упокой тебе поднесли… Но ничего: мы еще поборемся. Мы еще ответим им. Найдем слова. (Серов сделал отсос.) Хлопать дверью не будем. Не дождутся». Серов сидел на ящике, поставленном на попа. Высоко. Как на троне. Белоголовый – на низком, у ног его. Придворно был предан. С проникновенностью профана давал последний, самый хитрый совет: «А если тебе… подгонять? Под них? Писать как они?» Изо рта старика сорока пяти лет высверкивали сплошные железки вместо зубов. Но волос на голове был короток и крепок, как белый испод дубленки. «Э, нет, отец! Соловья крякать не научишь! (Соловей – понятно кто. Ну а крякающие – тем более известны.) Это все равно, что пытаться изменить свое письмо, почерк. Или – походку. Клоун будешь, а не пешеход. “Подгонять”. Как к ответу в задачке. Не выйдет! Пусть будут кособоки все, хромоноги, зато сразу видишь – кто идет. Не спутаешь. А в строю? Идут. Все жизнерадостные, как идиоты, все в ногу, все хором – разбери их там! Вот и приходится говорить о кособокости, хромоногости таланта, отец. Не может быть талантов в строю (новая максима Серова), не может!»
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


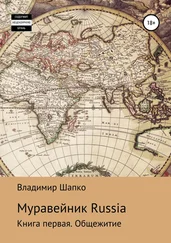

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




