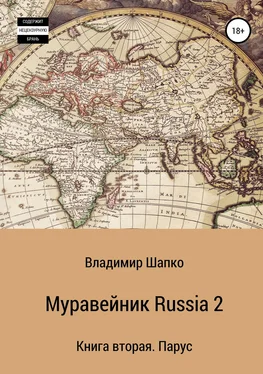Дядю звали Генрих Анатольевич. Менабени, естественно. Говорил Дядя картаво. Как уяснил Новосёлов уже через несколько минут, любимым словцом у него было слово «оригинально». Говорил он его всё время. По любому поводу. Оно пробулькивало у него, оно сверкало: – «Арлигинально!» Он говорил со смехом: «Я – арльтист арлигинального жанрля». Когда уже умеренно выпили и женщины раскраснелись, он прискокнул к пианино Ольги – старинному, с подсвечниками – и, постукивая по клавишам, оборачивался и пел: «Белые корля-я-яблики, бе-елые корля-я-яблики…» Глаза его подпольно всем подмигивали, посмеивались. И все тут же ему в тон подхватывали. А потом хлопали и смеялись.
За столом тоже раскрасневшийся Новосёлов говорил всё о концертах, на которые они ходили с Ольгой, о филармонии, о музыке, о музыкантах, и Ольга смотрела на него с гордостью, как на свое творенье. Дядя же больше выяснял про зарплату, про прописку в Москве, вообще – про перспективу, так сказать, роста.
Новосёлов, смеясь, отвечал, что 140-160 (от выработки зависит), в Москве восьмой год, общежитие, прописка временная («Да у нас и по десять лет ждут! – всё смеялся, радовал всех за столом простодушный, – и по двенадцать! Ещё как!»). Ну а какая перспектива?.. Будет, будет перспектива, Олимпиаду построим, проведём – и всё будет: и прописка, и перспектива.
Дядя вроде бы оставался доволен такими откровенными ответами. Однако когда жевал и говорить и петь не надо было, – усиленно, прямо-таки наглядно думал. С какими-то маньячными выкатывающимися глазами психиатра. Который всю жизнь, что называется, был у воды и хорошо ею напился… Новосёлову такие метаморфозы казались странноватыми вообще-то. Если честно.
Однако Дядя опять шустро подбегал к пианино и опять пел. «Белые корля-я-яблики, бе-лы-е корля-я-яблики…» И глаза его были весёленькими, нормальными. И всё снова подхватывали, а потом смеялись и хлопали. И задумываться об этих внезапных превращениях Дяди Новосёлову становилось уже как-то неудобно.
После тарелочек – тарелки пошли. Довольно вместительные. Где всё уже было стеснено. Вроде как на стройке разброс. Нагромождённый бульдозером. Жаркое с картошкой, ещё что-то из мяса, ещё. Съесть всё это, казалось, уже не было никакой возможности. Хотя и какой-то французисто-итальянистый вначале, к концу обед постепенно превращался явно в русский, купеческий, провально тяжёлый. Желудок растянуло. Что тебе стратостат. Новосёлова спасало только то, что ему нужно было выходить звонить по общему теперь телефону. С полгода как отобранному у матери и дочери. Вынесенному в коридор. Звонить насчёт дружины. Собрались ли. Вышли ли, так сказать, на маршрут. Извините.
Держал трубку возле уха, надёргивал номер в аппарате, висящем на стене. Икал. Полутёмный коридор ощущался как прохладный на живот и грудь компресс.
По коридору соседи ходили. Тенями. Всё включали и тут же выключали московские свои лампочки. Иллюзия создавалась, что лампочка одна. И она не дается им, перебегает в разные углы, тупички коридора. Прячется. Опять шумно прошла та самая подруга Николетты. Широкая и пёстрая, как балаган. Кивнула Новосёлову. Уносила торт на ладони высоко, будто тюрбан. В трубке у Новосёлова вяло побулькивало.
Неожиданно другое ухо поймало тихие слова. Из покинутой комнаты: «…Парень-то в Москву очень хочет… Да. Очень хочет. А ты, Олька – дура. Не мое, конечно, дело».
«Тише! – испуганный послышался голос Николетты. – Замолчи сейчас же!»
Новосёлов замер. Один сосед включил свою лампочку. Прямо у ног Новосёлова. Лысый старикашка. С лампочкой изучающе смотрел снизу. Вык– лючился. Пропал. «Да я что, – продолжал говорить картавый голос. – Ваше дело. Повторяется твоя история, Калька. Смотрите… Только фамилию оставит…»
Новосёлов боялся дыхнуть. Старикан у ног его опять включился. Свесив голову, смотрел, казалось, меж рук своих и ног. Просвечиваясь, как паук. Жмотистой своей лампочкой. Новосёлову хотелось пнуть его в зад. Повесив трубку, шагнул в комнату. Ни на кого не глядя, красный, сказал, что ему нужно уйти. Просили. Сейчас. Когда звонил. Извините. Повернулся, пошёл к вешалке у двери, к одежде. Все всполошились, разом подвиглись за ним. Наперебой выясняли сзади: что? почему так срочно? что случилось? Саша! почему?
Надевал полупальто, без конца извинялся, ни на кого не глядел. Ольга порывалась проводить. Стискивал ей кулачки. Выпучивая белые глаза. Стискивал, сжимал. Ни в коем случае! Вышел.
Падал крупный снег. В сумерках дома стояли будто с вскрытыми черепами. Не надевая шапки, Новосёлов нёс на голове такую же шапку вскрытых мозгов…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу