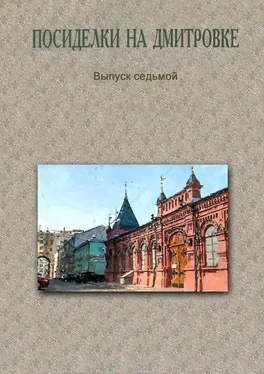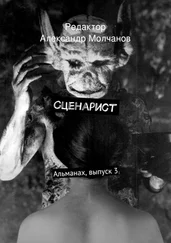«Вспоминается мне последнее время, проведенное в России, — рассказывала Надежда Александровна в интервью газете „Русская жизнь“, выходившей в Сан-Франциско, в ноябре 1946 года, вскоре после этого позорного документа. — Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город и вижу через всю дорогу огромный плакат: „Добро пожаловать в первую советскую здравницу!“ Плакат держится на двух столбах, на которых качаются два повешенных. Вот теперь я и боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с надписью: „Добро пожаловать, товарищ Тэффи“, а на столбах, его поддерживающих, будут висеть Зощенко и Анна Ахматова».
В своей Нобелевской речи Бродский говорил, какую неловкость он испытывает, стоя на такой трибуне. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до него, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала.
Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден — он назвал пятерых — тех, чье творчество и чьи судьбы ему дороги хотя бы потому, что, не будь их, он «как человек и как писатель стоил бы немногого». «Быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были…»
Время измывается над нами. Или мы — над временем? Маятник вправо — казним самых умных и талантливых, влево — милуем. Посмертно. А маятник снова идет вправо — изгоняем умных и талантливых, влево — возвращаем…
Книги Тэффи снова с нами. И те, которыми зачитывалась вся дореволюционная Россия, и те, что вышли в годы изгнания — в Париже, Стокгольме, Белграде, Берлине, Нью-Йорке…
Они стали появляться на Родине почти через сорок лет после ее смерти, в самом конце восьмидесятых — начале девяностых годов. В это же время — уже не тайно — мы читали стихи Иосифа Бродского, его потрясающие эссе, чаще всего переведенные с английского на русский. Слава Богу, это случилось еще при его жизни…
Он размышлял о подобном «прощении».
Прелестно (его слово), что разрешают Стравинского, и Шагал с Баланчиным уже хорошие люди. Значит, империя в состоянии позволить себе определенную гибкость. В каком-то смысле это не уступка, а признак самоуверенности, жизнеспособности империи. «И вместо того, чтобы радоваться по этому поводу, следовало бы, в общем, призадуматься…»
Любоваться бы закатом, млеть от красоты и ни о чем не думать, но почему-то…
Закат всегда печальный — считала Тэффи.
«Пышный бывает, роскошный <���…> но всегда печальный, всегда торжественный. Смерть дня.
Всё, говорят, в природе мудро: и павлиний хвост работает на продолжение рода, и красота цветов прельщает пчел для опыления. На какую же мудрую пользу работает печальная красота заката? Зря природа потратилась».
Солнце уже спряталось за дом Шаляпина. Пора уходить. Мне надо на Поварскую. По дороге остановилась около бронзовой девочки с бронзовыми цветочками.
Мы едем, едем, едем…
Когда бывает видно другое…
Две девчонки, лет девяти, Нюрка и Танюрка, играли за околицей: ныряли в сугробы.
Высокие надувы за длинными совхозными амбарами обрывались отвесными стенками с гребнями, закрученными не хуже, чем у морской прибрежной волны. А меж стеной амбара и снежным обрывом — узкая пустота, затишок. Будто метели и ветры, разогнавшись в чистом поле от самого леса, все ж боялись разбить лоб о бревенчатую плотную кладку старинного амбара, тормозили, а снег, что волокли с собой, тут и бросали. Так рос и плотно слёживался зимний откос, чтобы можно было в нем рыть длинные пещёры, а потом, зайдя со стороны поля, идти наугад, да ещё и задом наперёд, к амбарам. И вдруг ка-ак провалишься! Вот ужас-то! Вот счастье! Снег, рассыпчатый внизу, сухой: зима крепко настояна на морозе.
Девчонки прыгали и визжали так, что в ушах звенело. Они уже походили на снеговиков со своими круглыми белыми головами. Пуховые платки на них забиты, затёрты снегом: и не узнать, какого они цвета. Да и пальтишки, чулки, валенки, варежки тоже будто заштукатурены, снежной корой покрылись. У девчат одни лица алеют да блестят глаза…
Уж и стемнело давно, хоть было еще не поздно, а девчонкам нипочем. Каникулы начались! Послезавтра Новый год. Танюркина мама говорит — особенный. Он новое десятилетие начинает, пятый десяток разменивает: начнётся 1941.
Ну вот, разбили они все пещёры свои, и Танюрка новое придумала:
— Нюрк! Давай теперь снизу головой пробиваться, из пещёры наверх!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу