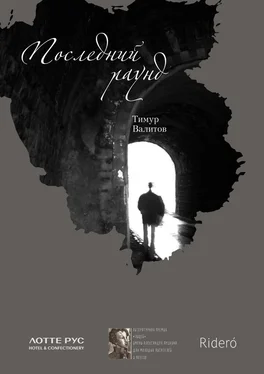Отец не любил Болгарию.
Васка не пришла. Хотелось есть: в одиннадцатом часу стало дурно от грушевого духа в комнате. Васка собиралась кончить в девять, показывала в окне свою контору, обещала дойти до меня за пять минут. Я спустился, спросил у пиджака про которую-нибудь едальню; по счастью, пиджак ответил на русском: сбивчиво, закругляя гласные. Я вышел на улицу: асфальт, осыпанный листьями, будто попрыщило, фонари перекрасили кроны в густую ржу. Справа едва шелестел канал — тонкая лента воды, схваченная с обеих сторон травой по колено. Слева менялись дома, одетые в вывески: свербело в глазах от столь милого болгарам твердого знака, от будто бы русских слов, в которых спутались гласные. Через два перекрестка отыскалась витрина с надписью: Магазин. Я взял бутылку кефира и ломоть пирога с брынзой; продавец указал на сиротливый барный стол в углу. Пирог занял минуты три; кефир, напомнивший детство, был выпит залпом. Подошел продавец, забрал перемазанную бутылку. Запела пыльная колонка в углу, пришли за банкой фасоли двое стариков. За каналом на бельевых веревках взбесились пеленки. Мимо витрины без дела бродила кошка, иногда внимательно, по несколько сосредоточенных секунд разглядывая мои ботинки.
Отец родился в Софии; годовалого, его увезли в Москву; потом он бывал в Болгарии дважды. В первый раз в семьдесят седьмом вместе со своим отцом — моим дедом: вроде бы дед что-то продавал. Четыре дня они жили окнами на мечеть: каждое утро в шестом часу им брались напоминать о всевеличии Аллаха. Потом, в девяностых, сразу после свадьбы отец повез мать в Несебр. Они прилетели в Софию, мать выпросила остаться в столице на ночь; в некоем кафе на бульваре у нее отняли сумку с отцовским паспортом (свой она зачем-то носила в кармане). В общем, объяснить отцовскую нелюбовь к Софии казалось несложным. Однако расстройство между ним и его родиной существовало как бы поверх всевозможных недоразумений с Аллахом и паспортом. Сколько раз я силился уловить самую суть этого противоречия, перевести ее в разговоры с Ваской, неизменно оканчивающиеся обещанием увезти ее в Москву. Сколько раз не хватало мне слов, чтобы высказать ту сложенную отцовскими рассказами и вымыслами ненависть ко всему, что жило в ней от Болгарии. И теперь вот, пожалуйте, эта непредвиденная осень.
Васка появилась утром: стучала с минуту, пока я соображал, где нахожусь. Дверь оказалась незапертой. С работы встретил дед, объяснила Васка, он был выпивши — запретил к тебе ходить и увел домой. Я спросил: Что же теперь. Уйду после обеда, чтобы дед не знал, ответила Васка, встреть меня вон там.
Одна ее рука оттянула штору, другая — билась ноготками о стекло.
В каком из одноликих, отлитых из желтоватого бетона зданий она работала, так и не понял. В третьем часу, блуждая вдоль канала, увидел ее на скамейке с книгой. Поцелуй пах зеленым луком. Я весь день думала, сказала Васка, втайне от деда не могу. Я не нашелся, что сказать; мы пошли вдоль раскрасневшихся линией каштанов. Как-то быстро, скомкано она показала мне столб пыли над развалинами, сумрачный храм под бледно-зеленым куполом, неотличимую от храма мечеть (я глядел на окна соседних домов, словно надеялся увидеть в котором-нибудь из них полусонные лица отца и деда). Потом она натерла пятку. Мы сели в кафе; в поисках пластыря выложили на стол содержимое ее сумки. Я сумел разглядеть книгу, обернутую в полупрозрачный пергамент: Иван Вазов. Это как Пушкин, объяснила Васка, только наш. Я нащупал закладку и отворил: Аз решително не мога да възприема нищо от това развалено наречие — и дальше тем же малопонятным порядком. Вазов был за русских, неожиданно сказала Васка, а писал о русофобах. Помолчала и добавила: Дед хочет с тобой переговорить.
Путь, которым мысль ее пришла от Вазова к дедовым намерениям, рисовал любые переговоры глубоко безнадежными. Я спросил: Зачем ему со мной говорить. Он вовсе не русофоб, ответила Васка, лишний раз подтверждая противоположное. Почему тогда запретил ко мне ходить, не унимался я. Васка подумала и сказала: Он разве что самую малость не любит русских. Разве я русский. Какой же ты болгарин: языка не знаешь, страны не видел. Коли так, что же мы, русские, ему сделали. В семидесятые он сидел в седьмом отделении, а потом — в Стара-Загоре. (В седьмом отделении, подумал я, никто не возвеличивал по утрам Аллаха.) Как же мы, русские, упекли его в болгарскую тюрьму, спросил я, сам не зная, почто мне ответы на все эти вопросы. Васка заговорила про коммунистов: я уже не слушал.
Читать дальше