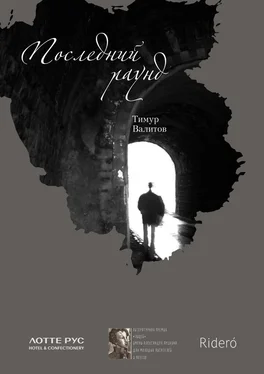II
Закончилась тетрадь — я выбежал из кафе, с трудом нашел магазин, чтобы купить новую, вернулся. Хотел продолжить там, где остановился, но понял, что история сказана: зачем описывать завтрак, причал, паром? От Анны остался укус на запястье, виноградные косточки, пропахшая табаком простыня: самой Анны не было. Я вернулся в Неаполь, по пути заехав к друзьям в Матеру; я рассказал им об Анне — их особенно повеселили сперма на ее губах и последовавшее мое изгнание. Я тоже смеялся — кажется, даже искренне, но решил больше не вспоминать об острове и только спустя несколько месяцев, напившись вина, взялся рассказывать отцу о том, как Анна выходит мне навстречу из моря, как блузка и юбка жмутся к ее телу, — и вдруг, пропустив сколько-то событий, о том, как она опускается на песок рядом со мной, как вода бежит, мерцая, по ее телу, как
Ладно, было — и пусть. Время — полвосьмого, денег на кофе не осталось; официант смотрит недружелюбно — думаю, за полтора часа до пересменки он недолюбливает и самого себя. Что ж, мне хотелось записать первую встречу с Анной — вот она, в тонкой тетрадке под бледно-розовой обложкой; пора идти на работу, попытаться объяснить вчерашнее отсутствие, наплести какой-нибудь ерунды: про кашель, про отказавший лифт, про несвежие сливки и прочая. Можно даже поспать час-полтора, если пойти домой прямо сейчас — но что тогда делать с этой, второй тетрадкой? Зачем я искал ее в такую рань? зачем тащился, отыскав, обратно в кафе? зачем пишу вот эти строчки, вместо того чтобы спрятать ручку в карман и встать из-за стола? И что мне делать с первой, бледно-розовой: выбросить? оставить здесь? Перечитывать — никакого желания, взять ее домой — нельзя: мама найдет и непременно откроет. Хотя… не все ли равно? Может, и она захочет что-то разглядеть в своем прошлом, вернуться к которой-нибудь встрече, к которой-нибудь ночи, к которому-нибудь поцелую? Может, и она захочет почувствовать забытый вкус табака, тепло кожи, кисловатый запах пота? Может, и она захочет наконец понять, что же такое ее жизнь в последнее время, захочет со всей решительностью посмотреть на мир вокруг, примириться с его бессмысленностью? И все же нужно объяснить те пять лет, что прошли от встречи с Анной: может показаться, будто все эти годы были беспрестанным возвращением в жаркий воздух островных закатов, блужданием вокруг безвозвратно ушедшего, но нет. Жизнь шла обычным порядком: в гулких улицах Неаполя, в трамвае — от улицы Поджореале до Муничипио, от Муничипио до улицы Поджореале, в ограниченности отведенного мне пространства — и вместе с тем в безграничности воспоминаний и намерений. Жизнь была чередой ночей и дней, разговоров и споров, радостей и неприятностей, суммой всех впечатлений, всех выпитых виски сауэр, всех надежд, всех несвязных мыслей и чувств, большая часть которых прошла, не оставшись в памяти. Я не вспоминал об Анне — тот разговор с отцом не в счет — пока
Все-таки придется начать издалека — иначе не объяснишь. Мы переехали в Неаполь, когда мне было шесть: отцу предложили работу в морском порту; все мои друзья остались в Матере. Раз в две недели мама везла меня на площадь Гарибальди и сажала на поезд; в Матере меня встречала бабушка — я видел ее ровно полчаса, пока мы ехали с дорожной сумкой до улицы Сальгари, — и еще полчаса спустя выходные на обратном пути к железнодорожной станции; бабушка никогда не пыталась удержать меня дома, называя «уличным» ребенком. Где-то в Неаполе была школа, были уроки рисования, был полюбившийся отцу театр Тото — но все самое главное в жизни происходило в переулках Матеры, в кирпичной пыли и пожухлых листьях, под запахи хлеба и чеснока. Учился я плохо, но иногда что-то занимало меня — скажем, седьмой день «Декамерона»; тогда я чувствовал желание постичь Боккаччо от начала и до конца, брался за «Фьезоланских нимф» и с небывалым воодушевлением разгрызал три-четыре строфы. А потом футбольная площадка, вылазки в каньон, еще теплый от солнца виноград, сорванный тайком в кооперативном хозяйстве, и еще много всего — но вспоминается по большей части ерунда: как я вернулся из Матеры с корзиной, а в ней — два кролика; как отец разбил кофейник; как в середине Вагнера вдруг выключился свет, и на сцене расставили красные бумажные фонари из «Мадам Баттерфляй»; как мама смотрит печально в зеркало и, вздыхая, крестится флаконом духов.
Позже был университет — какие-то странные, одообразно-утомительные годы: вспоминаю их почти безо всякого чувства. Учиться, не учиться — мне было все равно; университет волновал отца. Ему хотелось, чтобы я мог читать и писать по-гречески: отец родился в Трикале и, приехав по совершеннолетию в Италию, начал жизнь почти заново — только язык и связывал его с прошлым. Сколько себя помню, я говорил на итальянском и на греческом; мама — на одном итальянском. Удивительно, но, прожив с отцом с четверть века, она никак не понимала, чего от нее хотят, когда слышала по-гречески: который час? или: спасибо. Она словно знала что-то о жизни отца в Трикале или наоборот не хотела знать ничего; она часто злилась, когда мы с отцом говорили на греческом. Временами казалось, что она вообще против любого вмешательства отца в мою жизнь; когда я поступил на лингвистический факультет, она пообещала, что с карманными деньгами покончено, — она хотела, чтобы я стал юристом. Мне же не хотелось ничего: я был рад распрощаться со школой. Некоторые мои друзья перебрались из Матеры в Неаполь, однако многие уехали учиться в Рим, кое-кто — в Париж, в Америку; в Матере осталась горстка самых близких мне людей — только бабушка три года как умерла. И вот я зачем-то пишу все это, размазываю по странице беспорядочные воспоминания, а то, что нужно сказать, — того никак не уловить и не выразить. И все же в этом невыразимом и заключаются смысл и суть тогдашней жизни, как будто жить стоило ради одной лишь невозможности понять и внятно описать свое существование, ради его непостижимой противоречивости, и если так, то особенно неловко за сегодняшнюю муть с ее трамвайными маршрутами, с узнаваемыми ежедневно вещами, в которых нет ничего нового, со словарями и папками, распухшими от бумаг.
Читать дальше