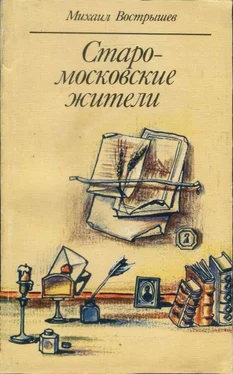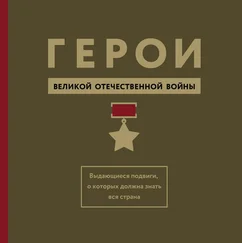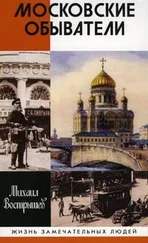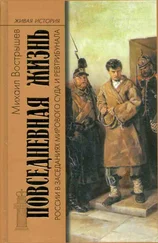— Пишут! Один дурак пишет, а три скота подписывать будут!
Некоторые посетители обратили внимание на Тудвасева, но четверо, про которых он говорил, делали вид, что их эти слова не касаются.
Тудвасев пошел на новый приступ:
— Не желаете ли, чтобы я разбил ваши физиономии? — Он дурашливо улыбнулся и поцеловал подсвечник.
Чиновник оторвался от бумаги и поднял удивленное лицо. Именно он-то со своим пером и раздражал купца.
— Не желаете ли, чтобы я начал с вас, строкулист вонючий?
— Прекратите! — Вдруг незнамо откуда перед Тудвасевым появился тщедушный субъект в поношенном фраке. Он весь трясся то ли от страха, что ввязался не в свое дело, то ли от благородства. — Вы не имеете права делать дерзости! Вы сейчас же должны просить у них прощение.
— Или он сейчас же исчезнет, или я плюну ему в нос, — объявил Тудвасев и, паясничая, стал надвигаться на тщедушного субъекта.
— Вы не посмеете! — закричал тот и затопал от бессилия ножками. — Попробуйте! Попробуйте!
Тудвасев удивленно хмыкнул и плюнул ему в лицо. Тщедушный субъект застыл, не зная, как ответить на столь низкое оскорбление.
— Философ! — крикнул Тудвасев половому. — Убери этого крючка, не то я ему плюху дам.
— Дайте! Дайте! — вышел из столбняка оскорбленный и завизжал истошно.
Тудвасев хотел было съездить ему по уху, но передумал и заорал на весь трактир:
— А ну, кто со мной, поднимайся! Седай по коням — плачу-у-у! Философ, лошадей живо!
Немного погодя извозчичий поезд из дюжины пролеток и калиберов несся через Каменный мост к двухэтажному трактиру «Волчья долина», про который шла дурная слава как о притоне всякого темного люда, где нередки грабежи и убийства. Впереди, в дрожках в обнимку с лихачом, на макушке которого красовалась маленькая фуражечка, летел купец третьей гильдии Петр Тудвасев.
Московский простолюдин просыпается рано — в четыре часа утра, — когда колокола зазвонят к заутрене. Богомольная баба спешит в приходскую церковь, бакалейщик собирается в свою лавку, ванька-извозчик запрягает старого коняшку в сани, нищие и кликуши пробираются к законным местам на паперти. Московский фабричный в эти минуты досматривает последний сон, с ленцой потягивается на полатях, откладывая минуту, когда придется поторапливаться к станку, — ему нет нужды заниматься хозяйством и молитвой, горемыке, променявшему крестьянский уклад жизни на тяжелый урочный труд.
Для поденщиков, артельщиков, мастеровых, всех тех, кого дворяне прозвали подлым народом, с раннего утра до темноты длится трудовой день. Не успеют мужики насладиться коротким ночным отдыхом, как вновь зазвонят к заутрене, а значит, надо натягивать на белое изнуренное тело нанковый зипун и впрягаться в нескончаемую непосильную работу.
По-иному проходит день у московской чистой публики, как дворяне именуют сами себя. Здесь просыпаются, когда уже отзвонят к поздней обедне, после полудня, и далее тянется жизнь, заведенная раз и навсегда, заполненная трапезами, ездой и разговорами. Сегодня — завтрак, визиты, обед в Благородном собрании, музыкальный концерт, бал, ужин, карты. Завтра — завтрак, визиты, обед в Английском клубе, благотворительная лотерея, маскарад, ужин, карты. Здесь вы видите веселые, довольные собой лица и фраки темно-малинового цвета, украшенные металлическими пуговицами, цветные жилеты и панталоны, разнородные галстуки с отчаянными узлами, удивительные бакенбарды; желтые, голубые, зеленые, пунцовые, полосатые, клетчатые платья, громадные чепцы и токи, свежие, здоровые, круглые, румяные лица, плоские, вздернутые кверху носики, маленькие ножки и толстые пухлые ноги, от которых лопаются атласные башмаки…
Но наконец наступает день, которого долго ждут трудолюбивые москвичи, те, чья жизнь состоит из повседневных забот о хлебе насущном. Вольность и веселье, смех и беспечность, удаль и буйство, потеха, пестрота, разнообразие ненадолго озаряют русский народ. «Дни великих праздников, — отметил Достоевский, — резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самого детства. Это дни отдохновения от тяжких работ, дни семейного сбора».
Умеет повеселиться в праздник горбатая старушка Москва, богатая хлебом, острыми языками и темными делами; умеет показать, что бьет с носка, когда Питер бока вытер, что она всем городам мать, и тот красоты не видал, кто в ней не бывал. Потому-то не хвались в Москву — хвались из Москвы.
Читать дальше