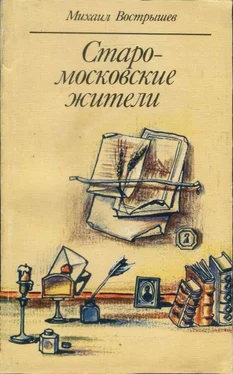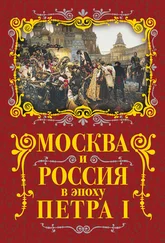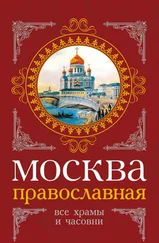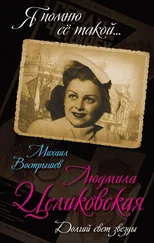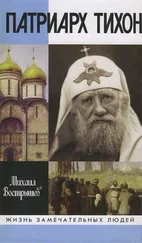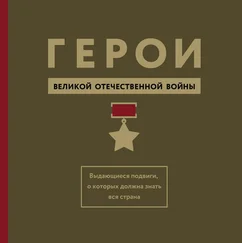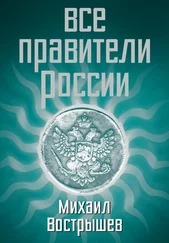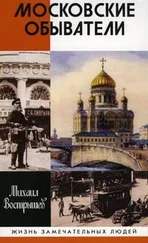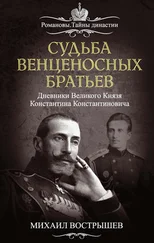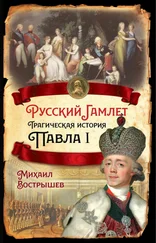Генерал-майор, командир бригады. Погиб на Бородинском поле во время отражения одной из неприятельских атак на Багратионовы флеши, когда со знаменем Ревельского пехотного полка вел бригаду в контратаку.
— …
Мать встала с кресла, опустилась на колени, провела рукой по лицу.
— Ослепла… И слава богу. Все равно их нет и уже не будет.
Настали черные, как ночи, дни. Но все сыновья продолжали жить в сердце матери, в сердцах их жен и детей, в сердце России.
Имена двух погибших Тучковых, вместе с именами Багратиона и Кутайсова, были занесены на слитую из металла неприятельских орудий колонну, которую воздвигли ветераны сражения на Бородинском поле.
На месте гибели Александра его вдова построила церковь-памятник, а позже основала Спасо-Бородинский монастырь, став его первой игуменьей. (Земли трех владельцев сходились на этом месте. Вдова хотела прикупить у каждого по участку, но помещики отказались брать деньги, пожертвовав землю безвозмездно в память героя битвы.)
Павлу, когда он немного оправился от ран, Наполеон лично вернул шпагу, заметив: «Таким образом, как вас, берут в плен только тех, которые бывают впереди, но не тех, кто остается сзади». Офицеры артиллерийского полка, шефом которого состоял Павел Тучков по возвращении из плена, преподнесли ему серебряный кубок с надписью: «Признательность за благородство». Таким Павел Тучков оставался до последних дней своих, а когда скоропостижно скончался на посту генерал-губернатора Москвы, оказалось, что первый человек города не скопил денег даже себе на похороны. Город живо их собрал, поставил памятник на его могиле и основал в Московском университете четыре стипендии имени Павла Тучкова.
Алексей был долгие годы известен Москве гостеприимством, любезностью, добротой, меценатством. Он собирал картины и книги, разводил роскошные сады и парки, строил изысканные дома. Он, в отличие от братьев, не стал участником кровопролитных войн, выйдя в 1797 году в отставку, чтобы ухаживать за больным отцом и быть опорой многочисленного семейства, но он был верным сыном, братом, другом для всех Тучковых в их безутешном горе и заботливым отцом для своих сыновей.
Сергей стал военным писателем и поэтом. В Петербурге был издан четырехтомник его сочинений и переводов. Последние годы, живя в Москве у брата Павла, он посвятил запискам, в которых рассказал о событиях своего времени — восстаниях, дворцовых переворотах, войнах, о замечательных современниках, о природе и обычаях многих стран, где ему пришлось воевать.
Память о братьях Тучковых жива и по сей день. Портреты Николая, Павла и Александра выставлены в военной галерее Зимнего дворца. Их именем названа одна из московских улиц и подмосковный поселок. Именем Сергея Тучкова названа улица в городе Измаиле. На Бородинском поле и в его музеях до сих пор сохранилось немало свидетельств геройства братьев Тучковых.
«Доблесть родителей — наследие детей, — выбито на одном из гранитных памятников поля русской славы. — Все тленно, все преходяще, только доблесть никогда не исчезнет, она бессмертна».
Бессмертны и братья Тучковы.
В восточной части Ленинских гор, на высоком правом берегу Москвы-реки уже более двух веков стоит дворец, на который с завистью заглядываются горожане и их гости: вот где пожить бы — вся Москва на ладони. Но сотрудники института химической физики не хотят лишаться рабочего места чуть ли не в самом центре города и стойко переносят неудобства старинного особняка во время своих ультрасовременных опытов.
А еще каких-то полтора века назад вокруг Мамоновой дачи, как называли эту дворянскую усадьбу москвичи, шумел вековой лес, редких грибников и любителей дальних загородных прогулок сковывал суеверный страх возле чугунной решетки с желтой ржавчиной и зеленым бархатом мохового нароста, за которой в глубине роскошного сада сверкал загадочный двухэтажный дом с террассами и высоким бельведером. Здесь долгие годы в полудобровольном заточении жил сын графа Александра Дмитриева-Мамонова, двенадцатого фаворита Екатерины II, посмевшего прийти в уныние от прелестей своей шестидесятилетней царствующей любовницы и предпочесть ей молодую княжну Щербатову, за что и был милостиво спроважен в Москву.
В белокаменном, живущем на крестьянский лад городе опальный фаворит, привыкший к фейерверкам, блеску двора и тонкой лести, загрустил и вскорости следом за молодой женой сошел в могилу, оставив сыну, по слухам, миллионное состояние.
Читать дальше