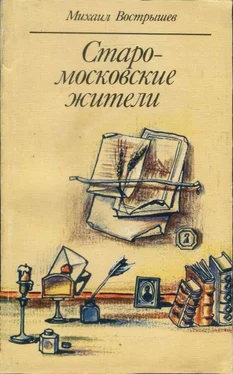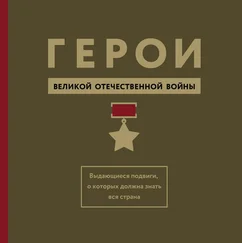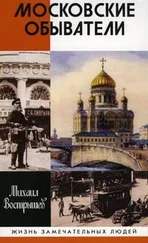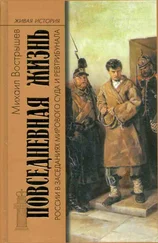Приказание было тотчас исполнено, а через четыре месяца обнаружилась совершенная невинность несчастного купца.
«Ты был прав, — сказал государь своему министру. — Теперь скажи, чем я могу вознаградить его невинное заключение?»
«Деньгами, — ответил министр. — Этот народ готов за сто рублей просидеть в крепости и год».
Его величество приказал выдать купцу четыре тысячи рублей и серебряную табакерку со своим изображением на крышке, — торжественно закончил Щилковский.
«Много ли таких людей, готовых честно сознавать свои ошибки? — добавлял, пересказывая поучительную историю, отец Исидор. — Эта черта высокая, которую не встретишь ни у иноземных монархов, ни в народе. Она присуща исключительно нашему императору и его почтенным ученикам, стоящим вокруг трона…»
В этом месте проповеди слушатели благоговейно смекали, что отец Исидор — один из тех, кто вокруг трона.
Алексей Обрезков позже, вернувшись в свои подмосковные Починки, совсем забыл про словесную белиберду дружеской беседы, разве за исключением рассказа Димы о железных клетках для охоты на волков, которые продаются в петербургском магазине охотничьих вещей. В клетке с бойницами помещаются несколько человек с ружьями, ее ставят на сани, и старая кляча, что не жалко отдать на съедение волкам, тащит их в лес. Вперед! На охоту!
Обрезков со своим приказчиком Петрухой чуть ли не год хохотали над петербургским изобретением и ради веселья изощрялись в додумывании новых приспособлений для петербургской охоты. Петруха, например, предлагал взять в клетку норовистого поросенка и колоть его понемножку ножом, чтобы поросячий визг приманивал волчьи стаи.
Князю Оболенскому запомнилось другое — как подвел его Обрезков, не на шутку разругавшись с Шилковским. Началось с ерунды, Дмитрий сказал с неподдельной грустью, что если бы государь узнал, как тяжела рекрутчина, то пожалел бы своих подданных; но он так высоко стоит, что не может видеть страданий народа.
— Про купца вспомнил, облагодетельствовал, а пятидесяти миллионов мужиков не видит? — съязвил Алексей.
— Про купца было доложено, а что раз доложено, то государь никогдане забывает, — спокойно осадил его Шилковский.
И тут Алексей осмелился на личное оскорбление:
— Так ты бы и доложил, что у нас в России есть пятьдесят миллионов битых мужиков, рекрутчина, голод, холера, взятки…
Дмитрий стерпел:
— Я имею право докладывать лишь о вещах, какие относятся к моим обязанностям и в которых я хорошо осведомлен.
И здесь Алексей, уже видя свое поражение, решил использовать для своей выгоды дружественное расположение Дмитрия и распоясался, словно мужик:
— Так и не плачься тогда о рекрутах, раз это не твои обязанности. Нехай служат! Без семьи, без дома. А деревня нехай с голода мрет без кормильца, мать пусть сдохнет от грусти, отец сопьется, жена сделается публичной бабой, а дети — негодяями. Нехай, раз тебе не жалко!
Но Дмитрий — молодец! — ответил ему спокойно, со смирением христианина и твердостью офицера, хоть немного и картинно:
— Для самого убогого я желаю добра и сытости. Я желаю всегда быть исполненным кротости и милости к падшему. Я желаю этого в душе моей, хоть знаю, что желаю невозможного. А невозможно мое желание потому, что есть святая, первая обязанность честного человека — быть верным подданным и слугою своего государя. Все иное — привидение, химера, развлечение для бездельников. Нынче многие любят выразить в неумеренных выражениях сожаления о подневольности крепостных крестьян. В вашей Москве это стало вроде пропуска во многие гостиные. Так вот, хочу тебе, Алексей, заметить, что в России недопустимо не только порицание нашего образа правления, но даже изъявление сомнения в пользе и необходимости самодержавия…
После этих слов даже Обрезкова проняло, и он запросил мировой. Да и сам Шилковский несколько смутился суровостью своих слов. Вот тут-то на Обрезкова, в свою очередь, обрушился Оболенский. Он стал говорить о скотской жизни, пьянстве, лености русского мужика. То есть он либеральничал куда больше Обрезкова, но при этом обвинял его за что-то неясное, революционное и возносил какие-то не известные никому слова Шилковского. Но граф не был таким набитым дураком, чтобы попасться на низкую лесть, и ему пришлась по душе не защита престола Александром Оболенским, а дерзость Алексея Обрезкова, заспорившего с ним.
— Мой труд не меньше их! — кричал Оболенский, все еще надеясь покорить гостей своим ораторским искусством. — Они знают, что я есть, что я могу их наказать или помиловать, знают все — от управляющего до последнего нищего — и страшатся. Да не будь меня, они давно бы все передрались и передохли с голоду.
Читать дальше